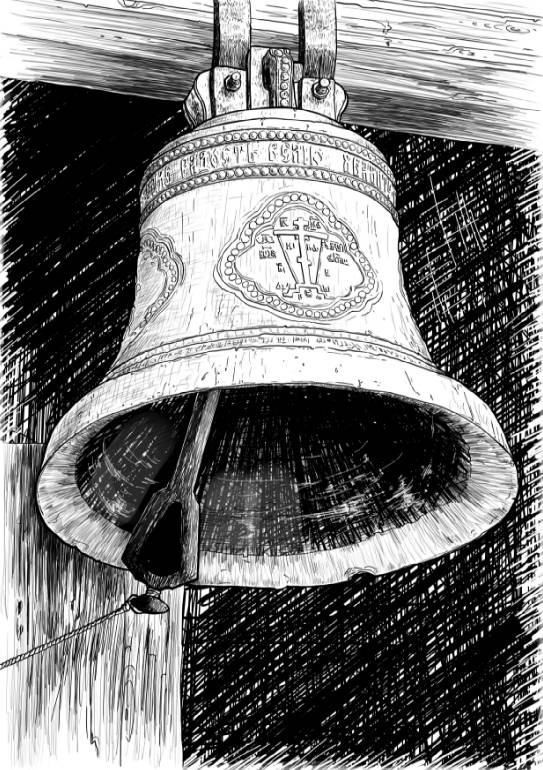Любопытно поставить перед нашим обществом следующий вопрос: существует ли для ныне живущих русских людей из бесчисленного ряда задач, предлагаемых настоящему поколению общественной жизнью, такая задача, которая могла бы быть решена и установлена на деле вне спора несомненным большинством голосов, о которой можно было бы сказать, что в этом отношении в России существует твердое мнение?
Представим себе сон: нам снится, что все частные русские люди, семьдесят девять с половиной миллионов из восьмидесяти, перенесены мгновенно на другую планету и им приходится устраивать свой общественный быт без помощи готовой правительственной склейки, которой у нас все держится; этим частным людям надобно сложиться в общество и государство одной силой своей исторической закваски и современных убеждений.
Может ли даже присниться, чтобы, при такой крайности, в нынешнем русском обществе нашлось достаточное большинство, правильнее сказать — достаточная нравственная сила, для твердого и скорого установления не только соответствующих форм, — мы об них уже не говорим, — но даже самых коренных основ?
Слово большинство необходимо заменить в этом случае словом нравственная сила, потому что в нынешнем состоянии света не все еще люди одинаково люди; под развитыми общественными слоями лежат слои, представляющие почти допотопный человеческий быт, которые даже в случайных проявлениях своей силы движутся не собственными замыслами, а руководятся вожаками из исторически созревших верхушек, — все равно, на парижских ли баррикадах, предводительствуемых живописцами без заказов и журнальными сотрудниками без работы, на французском ли и немецком всенародном голосовании, выжимаемом из страны давлением высших слоев, или в решениях русских гласных от крестьян на земских собраниях.
Явление возмутившихся сицилийских рабов, избравших своим начальником римского гражданина, представляет и будет представлять еще на неизмеримое время в будущем явление неизбежное. Мы можем поэтому ограничиться в нашем рассуждении одним обществом. Хотя русская народная масса и не оставалась бездейственной в решительные часы нашей государственной жизни, как, например, в 1612 г. (в чем заключается одно из великих наших преимуществ), но ее сочувствие имело лишь то значение, что доставляло перевес одной из партий, возникавших в исторически воспитанном общественном слое, — иначе и быть не могло.
Но существует ли в современном русском обществе какое-либо мнение с таким большинством, или, говоря иначе, существует ли такая группа единомысленных людей, которая в предполагаемом нами сне могла бы обратить свою волю в обязательный закон, без чего новой планете пришлось бы быть свидетельницей сумятицы и даже полного разложения, еще невиданных на нашем свете?
Вопрос этот сводится наследующий: оказываются ли в обновленном русском обществе хотя бы только завязки самостоятельной и сознательной народной жизни, без которой мы можем быть расой, можем быть государством, но не можем стать живой, развивающейся нацией, идущей вперед по своему пути?
Ходить же постоянно по чужим путям — значит лишиться в историческом смысле права на самостоятельное бытие, обратиться в обезличенную толпу, в материал, и подвергнуться опасности, раньше или позже, очутиться под рукой тех, у кого есть свой путь.
Несомненно, что всякий из больших европейских народов, поставленный в положение, о котором мы говорим, не находился бы долго в затруднении: он воссоздался бы по своему историческому складу. У англичан не возобновилось бы, вероятно, одно пэрство, но управление осталось бы на новой планете в нынешних же привычных руках.
Между французами не обошлось бы без резни, так как у них лишь резней устанавливается законность всякого нового правительства; но одна из готовых партий очень скоро захватила бы власть и снова опеленала бы народ административной паутиной; французам опять пришлось бы платонически увлекаться пристрастием к той или другой форме верховной власти, оставаясь под той же самой ежечасной и мелочной опекой чиновников, назначаемых всяким их правительством почти из тех же людей.
Нечего и говорить об американцах: почва новой планеты никак не показалась бы им в политическом отношении мудренее почвы Нового Света. То же сравнение, приблизительно, можно распространить и на немцев, и на итальянцев.
Но что делали бы в таком положении мы, русские? Одна сторона вопроса, вероятно, решилась бы скоро. Судя по понятиям всей массы нашего народа, признающего законной властью одну только царскую власть, без всякого ее определения, мы должны были бы снова прибегнуть к самодержавию, хотя подобное восстановление не обошлось бы без большой смуты: наш народ верит не столько в отвлеченный принцип, как в освященный род. Но вопрос этим не кончается.
Самодержавие все же есть только принцип, как народовластие в республике, принцип, способный облекаться в самые разнообразные формы в приложении к делу, в управлении государством и областями, как достаточно доказано нашей собственной историей. Но какой монарх может взяться за устройство управления, не зная, в чем состоят условия и потребности данного народа? А кто же, какое мнение, какая группа единомышленников — могли бы указать у нас, при воссоздании общественного порядка, наши потребности, — указать таким образом, чтобы голос их покрыл тысячи других голосов, настоящую кошачью музыку, которая поднялась бы по этому поводу?
Можно сказать с достаточною вероятностью лишь одно: большинство русских голосов не захотело бы возобновления бюрократического управления посредством столоначальников, вне необходимых размеров. Но чем заменить столоначальников? Кто сказал бы это на новой планете с таким авторитетом, чтобы в нем можно было узнать голос страны, по крайней мере голос нравственной силы, первенствующий в стране, что одно и то же? Можно думать, однако же, что, даже не переезжая на другую планету, мы находимся и на этой земле в положении довольно близком к вышеописанному, за одним исключением — за исключением прочности верховной власти, без которой все у нас рассыпалось бы прахом.
Конечно, существование твердой власти есть спасительный факт, обеспечивающий наше настоящее и близкое будущее в государственном смысле; но само по себе оно не предрешает форм общественного устройства, соответствующих нашему складу, росту и потребностям. Правительство состоит не из волшебников, которые могли бы знать то, чего не знает сам народ; у нас же не существует покуда никакого связного мнения (возможного только при связности людей), в котором выражалось бы хотя приблизительно направление большинства русского общества.
Двадцать лет тому назад нельзя было предложить подобного вопроса, не только по стеснению слова, но потому, что он не имел бы смысла. Во-первых, некоторое сосредоточение мнения и органы для его выражения тогда существовали, хотя в очень одностороннем и бездейственном виде. Во-вторых, — и это главное — подобный вопрос не мог тогда возбудиться, так как в нем не настояло надобности.
Пока продолжался воспитательный период нашей истории, открытый Петром Великим и законченный нынешним царствованием, верховная власть относилась у нас к народу, вместе взятому, не только как власть, но как наставник: и сама она, и русское общество, после страдательного противодействия первых годов, признали особую просветительную миссию сверху, не постоянную, а временную, отрицавшую по своей сущности самостоятельность суждения и гражданской деятельности у просвещаемых. Известное дело, что от ученика требуют только прилежания и послушания, а не мнения.
Прожитый нами полуторавековой воспитательный период был запечатлен исключительным, чисто искусственным и подражательным характером, резко отличающим его и от предшествующего, и надо думать, от наступившего уже времени, от минувших и от грядущих веков самодельного народного развития. Настоящее царствование упразднило этот воспитательный период, вызвав общество к гражданской деятельности, и открыло новую эпоху русской истории, можно надеяться — эпоху зрелости, в отношении к которой все предшествующие были только приуготовительными.
Мы выдержали выпускной экзамен, так, впрочем, как его обыкновенно выдерживают на Руси, благодаря снисхождению экзаменаторов, более чем собственным знаниям; тем не менее мы теперь уже должны стоять на своих ногах и жить своим умом. Вопрос об определенности и твердости общественного мнения и о связности сословных пластов и групп, способных взращать и выражать его, становится из праздного, каким он был еще недавно, неотложным.
Покуда же мы, русские, встающие со школьной скамьи воспитательного века своей истории,связываемся между собой не какой-либо общностью мнения, свойственной всякой сложившейся нации, а лишь некоторым единством народного чувства; это чувство есть не что иное, как отголосок, постепенно выдыхающийся от времени, однородности и сосредоточения национальных взглядов, когда-то у нас существовавших.
Потому мы покуда только государство, а не общество. Очевидно, крепость государственного сложения обеспечивает нам переходный срок, в течение которого мы можем срастись в общество; но тем не менее срок этот, едва ли растяжимый произвольно, должен окончательно решить, что нам предстоит впереди: быть ли живым народом или политическим сбором бессвязных единиц. На дне вопроса, поставленного таким образом, лежит ключ нашего будущего.
В современной России видно во всем отсутствие сложившихся мнений и общественных органов, способных установить взгляды большинства и выражать их с достаточным весом. Одно связано с другим неразрывно: разброд мнений всегда доказывает, между прочим, разброд людей. Ниже мы постараемся исследовать причины такого необычайного явления — тысячелетнего исторического общества с неустоявшимися понятиями; покуда же можно удовольствоваться признанием самого факта: путаница наших понятий бросается в глаза.
Мы все знаем, что русский народ чрезвычайно даровит, что умных людей у нас едва ли не больше, чем где-нибудь. Достаточно проехать несколько сот верст по нашим и по заграничным железным дорогам, разговаривая со случайными соседями, чтобы неотразимо прийти к двум заключениям: первое — что в суждении большинства русских людей гораздо более меткости и независимости; второе — что в самых обыденных предметах, к которым европеец подходит совершенно развязно, как к своему дому, зная все входы и выходы, русскому приходится как будто открывать Америку; вы видите, что наш земляк подступает к предмету как бы в первый раз, и притом в одиночку, не чувствуя за собой никакой опоры сложившегося мнения.
Даже в противоположных взглядах двух европейцев на какой-либо предмет заметно, что суждения их исходят из одного общего основания и расходятся только в личных заключениях; но даже в согласии двух русских чувствуется, что мнения их вытекают из различных точек зрения и сходятся только в практическом выводе. Под нашими взглядами нет общей подкладки, выработанной совокупной жизнью. Оттого средний русский человек из фрачных слоев или крайне нерешителен в своих заключениях, не доверяет себе, или же дерзок до безобразия, до бессмыслия.
И нерешительность, и дерзость происходят из одного источника — из того, что он должен до всего добираться сам, что он не знает, что и кто за него, что и кто против него; он рассуждает в одиночку. И наша робость, и наша смелость не сознательны. Оттого русские люди, даже вполне зрелые и нравственно сильные, которые принесли бы честь всякой стране, мало полезны обществу. Как иметь влияние на общество, когда оно не представляет ни сборных мнений, ни общих интересов, ни сложившихся групп, на которые можно было бы действовать; влиять же на людей поодиночке значило бы черпать море ложкой.
Недостаток гражданской доблести, вялость в исполнении своих обязанностей и равнодушие к общему делу, в которых мы постоянно себя упрекаем, происходят, в сущности, от бессвязности между людьми. Немудрено быть гражданином там, где человек видит перед собою возможность осуществить всякое хорошее намерение; но нужна непомерная, чрезвычайно редкая энергия, чтобы тратить силы при малой надежде на успех. Это чувство одиночества, действующее очень долго, повлияло, конечно, и на склад русского человека, сделало его относительно равнодушным к общественному делу, лишило веры в себя, вытравило из нас отчасти то, что называется индивидуализмом. Невозможно вылечиться от равнодушия, пока продолжается обстановка, его создавшая.
В русской литературе то же самое, что в русской жизни. И здесь нет недостатка в умных и ученых книгах или журнальных статьях, заносимых в периодические издания из самого общества; но под зрелыми русскими книгами так же точно не оказывается почвы, как и под зрелыми русскими людьми: они мало входят в народное сознание, между ними и общим уровнем остается пустой промежуток. В других странах никакое личное выражение сильной мысли не пропадает даром: оно подхватывается и разносится в обществе периодической печатью, оно, можно сказать, разменивается ею на мелочь для всеобщего употребления.
У нас же между серьезными трудами со стороны, которые печатают случайно газеты или журналы, и собственными их передовыми статьями или обозрениями не оказывается никакой связи; в печати, как и в жизни, зрелые люди остаются одинокими, мыслят про себя, а печать (даже издания, служащие им органом, за весьма малым исключением) продолжает угощать публику той же уличной философией и политикой.
Даже в деле рецензии и ознакомления общества с замечательными отечественными произведениями, составляющих прямое дело периодической печати, всякий труд, перерастающий общий уровень, всякое произведение мысли сколько-нибудь сильной — остаются чужды русской критике; разве случайно вздумается умному и ученому адвокату написать разбор нового сочинения по социологии, или «неизвестному» представить очерк так называемых «запрещенных духовных книг».
Без таких случайностей, довольно редких, одиночные верхушки русской мысли оказываются не под силу нашей критике, даже не затрагиваются ею. Удивительно разве то, что многие люди все-таки добираются до этих произведений собственным чутьем, без всякого указания, что репутация наших деятелей и писателей в обществе держится совершенно независимо от ее огласки печатью; этот факт более всего остального доказывает великие нравственные силы, скрытые в недрах русского общества, несмотря на слабость внешних его проявлений. В начале шестидесятых годов наша периодическая печать оказывала несомненное влияние на общество, но в итоге влияние пустозвонное и нехорошее, и утратила его по своей вине.
Теперь она не руководит решительно ничем, остается совершенно бесплодной для развития мнения русских людей, тех по крайней мере, у которых выросла уже борода. Особенно должно сказать это о нашей печати газетной, наиболее привлекающей читателей среднего уровня; она исключительно живет фельетоном, обращенным в потеху для публики, принявшем все свойства старинного помещичьего увеселения с шутами и скоморохами.
Наши нигилистские журналы издаются для гимназистов; так называемые серьезные газеты, во всем, что они говорят от своего имени, — ровно ни для кого: читатели ищут в них шуток, телеграмм, известий из областей, городской хроники, иногда останавливаются на случайном слове кого-нибудь из читателей же, решившегося высказаться — и только.
Явление само по себе совершенно понятное. В нашей периодической печати не выражается, кроме редких исключений, никаких сборных мнений, у нее нет союза со сборными интересами, так как страна почти не обнаруживает их; за печатью не стоит никто, она не внушается никакой живой действительностью, она решает все на свете с точки зрения каких-то общечеловечных принципов, заменяющих недостаток положительного дела; одним словом, она выражает собой только самое себя, понятия своих сотрудников.
Кому же они могут быть любопытны? Нельзя сказать притом, чтобы в наших журнальных редакциях не было даровитых людей: они есть; но у этих людей нет дела, они проникнуты тем же характером, находятся в тех же условиях, как наши даровитые собеседники на железных дорогах. Едва можно назвать две или три редакции, стоящие выше этой среды; но и они точно так же вращаются в пустоте. Свыше, очевидно, относятся к влиянию такой печати гораздо серьезнее, чем относится к ней само общество — лучший судья в этом вопросе.
Тем не менее дело идет о предмете первой важности. Современное состояние дважды обновленного русского общества, во всяком проявлении его, до какого ни коснись — до жизни высших и низших слоев, до земского управления, до церковного причта, до школы светской и духовной, до печати, до войска, до семейного быта, — доказывает совершенный разброд людей и понятий, ничем между собой не связанных. Этой беде не поможет ни классическое, ни реальное образование, когда вокруг юношей, выходящих из школы, общественная жизнь рассыпается на первобытные атомы.
Никуда не годится объяснять наше внутреннее бессилие (можно сказать даже — оскудение, потому что в известном отношении мы спустились ниже, чем стояли недавно) одной молодостью тысячелетней России: нечего ждать естественного наступления возмужалости. При нынешнем ходе дела эта возмужалость никогда ни придет сама собой. С каждым годом мы будем скорее рассыпаться, чем складываться, а в настоящем положении света, сросшись с Европой так тесно, как мы с ней срослись, нам некогда уже подрастать потихоньку. Глиняный горшок не спутник железному.
Прежде чем искать выхода из нашей бессвязности, надобно хорошенько в ней оглядеться. Не только в русской общественной жизни нет ни средоточия общего, ни средоточий местных, его нет так же точно и в русской мысли. Справа налево, во всем туманном облаке расплывающихся русских мнений, из которых ни одно не очерчено ясно, от бывших славянофилов до крайних нигилистов, не приметно до сих пор ни одной точки, в которой можно было бы предполагать будущий центр тяготения нашей национальной мысли, направление будущего большинства.
Этой точки нельзя даже подозревать, потому что у нас обрисовались сколько-нибудь лишь крайние, совершенно несогласимые мнения; а в промежутке между ними, где обыкновенно помещается центр, тянется умственная пустота, в которой вращается вихрь осколков — даже не мыслей, а осколков фраз и слов, надерганных наудачу из обеих оконечностей, больше, впрочем, с левой, чем с правой; выводы последней, и то без ясного понятия об их источнике, стали только недавно входить в общее сознание. Этот вихрь самородных осколков недавно зародившейся русской мысли перемешан вдобавок с роем других мысленных осколков, внесенных гуртом в наши понятия только что прожитым подражательным периодом русской истории.
Наше образованное общество воспитывалось на иностранной жизни, то есть на иностранных литературах, и огулом почерпало из них не столько мысли, как названия с подведенными под них заключениями, а потом, не задумываясь, применяло эти названия и заключения к своему домашнему быту, к явлениям русской жизни, имеющим совсем иное содержание. Эта переноска названий и готовых выводов на неподходящие к ним предметы спутала наши понятия до хаоса.
Мы не заметили в начале своего подражательного века, что явления нашей общественной и государственной жизни, окрещиваемые иностранными именами, подразумевают совсем не то, что слова эти означают на Западе:
- что русская верховная власть стоит на совсем других основаниях, чем феодальная европейская монархия;
- что русское дворянство не имеет ничего общего с дворянством западным ни по происхождению, ни по отношению к народу и представляет совсем иную функцию общественной жизни;
- что применение к нам европейских понятий о среднем сословии составляет бессмыслицу, потому что в России всего только два пласта людей — пласт, созревший исторически, постоянно подновляемый притоком новых сил снизу, и пласт стихийный — простой народ;
- что православное духовенство, как общественный орган, не может быть ни с какой стороны приравнено к клиру католическому или церковному наставничеству протестантскому;
- что православная церковь, охраняющая свое единство в чисто духовном смысле, составляет учреждение не политическое, чем обусловливается внутреннее направление нашей истории, кроме случайных, совершенно личных отклонений, а потому у нас невозможно мерить отношения церкви к государству заграничным аршином;
- что в России нет черни, волнующей с некоторого времени Западную Европу, а есть только оседлый народ, не разрывающий связи с родной деревней, даже при долголетнем жительстве на стороне;
- что завистливые отношения низших народных слоев к высшим, образованным, решительно у нас не существуют, вследствие чего первые не требуют себе никакого трибунства, никакого ограждения от последних;
- что наш народ привык управляться миром только в хозяйственном отношении — делить общинную землю и подати, а полицейское самоуправление на швейцарский лад ему неведомо, — и так далее без конца.
Можно было бы выследить во всем объеме образованной русской жизни фальшь, происходящую из занесенных к нам чужих названий и выводимых из них неподходящих заключений. Проглядев в первом жару образовательного увлечения это коренное различие между вновь заучиваемыми словами и своей родной действительностью, мы сбили себя с толку на полтора, может быть, на два столетия. Мы уподобились все львенкам басни, отданным на воспитание орлу и воспылавшим, по возвращении домой, рвением обучать зверей искусству вить гнезда.
Отсюда все промахи нашего воспитательного периода сверху и снизу вплоть до новейшего нигилизма, прямого и неизбежного его последствия, а вместе с тем самого неподходящего и бессмысленнейшего из русских подражаний. Из общества, вместе с людьми, эта привычная подстановка чуждых названий и выводов под русскую действительность перешла и в официальные круги — кто же наполнял эти круги, как не те же люди образованного русского слоя? — и отразилась на бесконечном ряде правительственных мер прошлого времени; в последний раз она отозвалась, и отозвалась сильно, на громадных преобразованиях шестидесятых годов.
В обществе это полуторавековое qui pro quo действует до сих пор тем заметнее, чем личный взгляд человека ближе подходит к левой стороне русских направлений, то есть чем меньше самостоятельности в его мысли. Какой-нибудь журнал пишет статью о народном образовании в России: он считает просвещенным делом выговорить, по западному образцу, ограждение образования от клерикализма, даже не подозревая того, что, беспокоясь о нашем клерикализме, он говорит французским языком уездной барышни, которая называет содержателя постоялого двора — по-народному, дворника — le portier; a щи — la soupe au choux.
Одно с другим — переплетение крайних взглядов, выросших на русской почве, с хаосом неподходящих, чуждых нашей жизни выводов и заключений — не могли не сбиться в настоящую кашу в русской голове средней силы. При некоторой связности общественной жизни этот хаос пришел бы сам собой в порядок, по крайней мере распределился бы по группам; значение господствующих направлений можно было сосчитать, если не взвесить; мы знали бы приблизительно, в чем у нас сила и куда мы идем. Но при нынешнем положении дела, при полной бессвязности людей, умственный хаос обращается в наш хронический недуг.
Нельзя не заметить, однако ж, что механическая смесь противоположных или, что еще хуже, несоизмеримых взглядов может уживаться только в частной жизни нетребовательных личностей, для которых мнения составляют нечто вроде умственного упражнения на досуге; но с ней не уживается стройная общественная жизнь, требующая прежде всего известного соответствия начал и целей в людях, действующих сообща.
Единственная серьезная работа русской мысли над самой собой дана нам группой, наименее у нас популярной, бывшими славянофилами — не в их теории и не в их практических заключениях, но в анализе, совершенном ими над русскими понятиями конца воспитательного периода, в изобличении вопиющей фальши чуждых названий и подведенных к ним готовых заключений чужеземной жизни в отношении к русской действительности, в точном определении нашего рода и вида между нациями, в общественном и духовном смысле.
Без этого труда, не вполне еще вошедшего в общественное сознание, но тем не менее проникающего его понемногу со всех сторон, мы находились бы до сих пор в смутном положении образованного русского слоя двадцатых годов, стремившегося всей душой, чистосердечно, к перенесению на нашу почву французских порядков и французских политических заключений, — в положении русских барынь, обращаемых де Местром в ультра монтанство, — в понятиях того времени, когда Белинский видел в турецком паше и австрийском жандарме просветительное начало для славян.
О школе славянофилов можно говорить уже в прошлом; она отжила свое время и высказала все, что имела сказать. Теория ее создала принцип слишком цельный, чтобы он мог примениться к условному общественному быту; в практических заключениях она не принесла плода.
Поставивши ясно вопрос, независимые и либеральные умы, работавшие в этом направлении, не умели свести его на жизненную почву; такая задача оказалась не под силу их времени. Они пришли на деле почти к тем же заключениям, как позднейшие либералы с чужих слов: искали спасения в сокровищах стихийной мудрости русского простонародья. С общего голоса всех направлений опыт был предпринят. Оказалось, как и должно было оказаться, что стихийные народные сокровища (действительные, как доказывается русской историей) уподобляются минеральным сокровищам горы Благодати: лежат под спудом и без пользы, покуда образованные инженеры не станут извлекать их по частям и отливать в определенную форму.
Нечего говорить о не существующей пока средине русских мнений о том, что называется на Западе правым и левым центрами, всегда составляющими большинство: она высказывается по временам лишь в добрых отношениях к некоторым практическим предметам, выражает преимущественно личное настроение и не выработала себе никаких общих начал. Да как и выработать? Мы вынуждены перешагнуть прямо к вавилонскому смешению языков, названному недавно левой стороной русских мнений.
Наши левые мнения прозвали себя либеральными. Это прилагательное удержалось за ними в разговорном языке не как суждение общества, но как кличка. Что значит в их смысле слово либерализм, — можно видеть из следующего сравнения.
Славянофилы, ныне уже отжившие, были не только либералами, но либералами-утопистами, насколько русские люди могли стать ими, не отрываясь совершенно от почвы. Они так глубоко верили в сокровенную духовную мощь русского народа, что считали возможным осуществление самых широких идеалов жизни почти без всяких обеспечений со стороны власти и закона, на началах одного полюбовного соглашения:
- они верили в народную правду, то есть в разумное сельское самоуправление с общиной и круговой порукой;
- верили в самое широкое самоуправление областное и государственное (земские соборы, как совещательное собрание);
- верили в полную свободу слова, служащего само себе противовесом;
- верили в безызъятную свободу совести и духовную вселенскую Церковь, стоящую исключительно на единодушии верующих, вневсякой охраны со стороны государства;
- они признавали суд присяжных (справедливо или нет — все равно) за коренное славянское учреждение;
- ограничивали в своей теории действие администрации одной внешней, фактической стороной жизни;
- были противниками всяких предупредительных стеснений;
- свято (хотя, конечно, не слепо) чтили науку, — и так далее.
Если такие мнения — не самый полный, почти радикальный, даже увлекающийся либерализм, по крайней мере в применении к современному общественному состоянию России, — то что же он такое? Недаром Герцен называл славянофилов своими братьями по свободомыслию. Против них можно было спорить во многом, даже почти во всем, вследствие слишком теоретической постановки, которую они давали своим положениям; можно было опровергать их приемы; можно было доказать им, что такого свободного общества, о каком они мечтали, еще не существовало на свете, — но никак нельзя было не признавать их самыми свободомыслящими людьми.
Между тем наши так называемые либералы всегда считали и именовали группу славянофилов консервативной, нелиберальной. Так выражались даже почтенные, совсем не нигилистские, сохраняющие благопристойность органы левого направления; подонки же этой стороны литературы, настоящие нигилистские листки, величали мнения славянофилов «понятиями московской просвирни». Теперь спрашивается: если стремление к широчайшему самоуправлению, к свободе слова и совести, к независимой неполитической церкви, к народному суду, к вольной науке и т. д. составляют в нынешнем положении нашего Отечества партию консервативную, то в чем же заключаются гражданские стремления нашей партии прогрессивной?
Читатель ждет ужасов. Можно думать, что идеал людей, для которых все вышесказанные стремления составляют не более как чистый консерватизм, должен бить, по крайней мере, на какой-нибудь социальный переворот! Нет, ничего подобного наши либералы не имеют в виду. В конце пятидесятых годов у нас действительно развилось было, под давлением долгого застоя, заграничной пропаганды и тяжелого впечатления крымской неудачи, направление поголовно отрицательное, сильно проникнутое бреднями социализма и космополитизма — наш знаменитый нигилизм; но он никогда не был сознательным убеждением чьим бы то ни было, кроме нескольких недокроенных природой личностей, — он был только модой, на которую всегда податливы люди, не чувствующие под собой почвы.
Первое соприкосновение русского общества с действительностью в виде польского восстания снесло его как утренний туман. Остатки нигилизма укрылись в литературных подпольях, откуда они продолжают действовать понемногу на разных юношей, так что нынешние русские нигилисты составляют не какую-либо группу людей, связанную общими убеждениями, а только известный возраст. Как Афины под управлением геронтократии (аристократии старцев), Россия поделилась на партию людей брадатых и партию безбородых; стало быть, нынешний нигилизм, в сущности, составляет довольно невинную забаву.
С тем вместе вершины, даже средний уровень либеральной печати и публики почти совершенно очистились, по крайней мере в политическом отношении, от нигилистских начал, то есть от фантазии отрицания всего исторического подлунного мира, хотя множество отдельных поверий той полосы времени удержались еще, как лужи после наводнения. Но хотя в настоящее время наши грамотные либералы уже не нигилисты, тем не менее они признают за собой стремление к таким возвышенным целям, в сравнении с которыми утопические цели славянофилов не что иное, как консерватизм.
Мы полагали бы, что на свете не существует покуда политического идеала, который мог бы относиться к полной свободе самоуправления, слова, церкви и проч., как процесс к застою; американцы такого идеала не знают: честь изобретения его принадлежит русской левой стороне. Но в чем же состоит, наконец, этот недостижимый для других народов идеал? Увы, это можно сказать в двух словах. Он состоит ни в чем, все содержание его не превышает нескольких десятков либеральных общих мест, занесенных к нам красноречием европейских политических партий. Для наших либералов важны слова и названия, а не дело.
Перенесение в наш домашний быт названий и заключений, выработанных чужой жизнью, о котором мы говорили, усложнилось еще особым, временным характером — теоретическим крайне либеральным оттенком в самом неопределенном значении этого слова. Европейские понятия стали проникать в русское общество только в последние годы Екатерины, одновременно со взрывом революции; до тех пор мы заимствовали военно-технические знания, шитые камзолы и менуэт; еще Рюльер говорил о нас: «une nation barbare armee de tous les arts de la guerre».
В ту пору именно вся Европа увлекалась царством разума и правами человека; понятно, что это увлечение, в теории, не осталось чуждым и русскому образованному обществу. Но с тех пор между Европой и нами легла следующая разница: Европа выстрадала последствия своих увлечений и научилась жестоким опытом отличать слова от дела; по крайней мере культурные слои ее научились этому искусству.
Мы же заимствовали из ее пира только цветки без ягодок и позволяем себе роскошно упиваться их ароматом, не разбирая между целебными и ядовитыми. При таком золотом настроении владычество пышных слов хотя и не умно, но понятно. Слова эти, несмотря на свою обветшалость, стали у нас длямногих такими же кумирами, такими же метафизическими существами, по выражению Огюста Конта, какими были они для французов 1788 г. — в меньшей степени, конечно, так как там кумиры были самородные, у нас же они заносные.
В этих метафизических либеральных словах заключается вся сущность нашей левой стороны, всех изданий и мнений, выросших первоначально на смутной почве конца пятидесятых годов, несмотря на видимые усилия многих из них высвободиться из-под таких воспоминаний. Кумиропоклонение перед словами выказывается на этой стороне всякий раз без исключения, как только подымается у нас какой-нибудь общественный вопрос. Достаточно указать на выдержку несколько известных примеров. Каждый такой пример, как каждое отдельное существо в природе, представляет собою целый микрокосм, в котором отражается все общественное состояние со своими оттенками.
Вот случай с госпожой Энкен. Приговор мирового суда, учрежденного для разбора дел по обычаю страны, противоречил не только русскому обычаю, но обычаю всех стран в свете; он был бы несообразным даже в демократической Америке. Если б такие приговоры вошли в привычку, если б русский человек не мог прогнать во всякое время слугу, ругающего его в глаза, — существование культурных слоев стало бы у насневозможным; от министра до последнего технолога всем людям образованных слоев пришлось бы бросить умственный труд и заняться черной работой, мести свою комнату и чистить сапоги по невозможности держать прислугу.
Ни мировые судьи, изрекшие знаменитый приговор, ни защитники их в печати не потерпели бы у себя, в своем личном деле ничего подобного. И те, и другие знали отлично, знали несомненно, что этот приговор выражает произвольную ложь в общественных отношениях; что ни в одной стране, имеющей привычку к самоуправлению, он не был бы допущен; что распространение подобных взглядов мирового суда имело бы последствием переворот всех общественных отношений, нечто вроде социальной революции — чего не хочет ни правительство, ни общество, чего в действительности не хотят даже эти судьи и их литературные защитники. Всякому известно, что общие начала или принципы, на которых подобный приговор мог бы основаться, годятся разве для самого плохого нигилистского листка.
Никакой европеец не поймет возможности защитить московский приговор; значительная же часть нашей так называемой либеральной печати защищала его. Если защищала, стало быть, надеялась на одобрение многих читателей, из которых ни один, наверное, не поступил бы в подобном случае снисходительнее г-жи Энкен, а большинство поступило бы гораздо суровее. Что же означает подобное явление, если не ребяческое кумиропоклонение пред общими местами либерализма, не имеющими никакого значения в жизни. Общее либеральное место в данном случае — это три заветные слова: святость суда, выборное начало и равенство перед законом.
Но святы лишь вера и отечество, отец и мать; суд вовсе не свят сам по себе: он есть общественная потребность и годится в данном ему устройстве только до тех пор, пока удовлетворяет этой потребности, а не противоречит ей; выборное начало есть средство, а не цель, — средство, не соответствующее многим отправлениям общественной жизни; равенство имеет значение между гражданами, которых сам же закон ставит в равное положение, а не между солдатом и офицером, не между наемным слугой и его господином, не говоря уже о том, что всякий выгонит из дому не только низшее, но и равное, но и высшее себя лицо, если оно начнет делать дерзости.
Либеральные защитники московского приговора знают это так же хорошо, как мы; их практические действия совершенно сходны с нашими, но на бумаге они — рабы известных слов фетишей, они отрекаются пред ними от своего личного суждения.
Возьмем другой случай. Речь идет о присяжных, просящих милостыни между заседаниями и крадущих друг у друга полушубки на скамье суда. Сказать мимоходом, мы вовсе не против присяжных из крестьян, — они оказываются лучше столичных, — но всему есть мера. Левая, то есть либеральная, печать восстает на защиту существующего порядка на том основании, что закон есть дело вековое и священное; что в Англии даже сомнительные законы испытываются целыми столетиями, прежде чем решаются их изменить.
Защитники прошения милостыни присяжными, по крайней мере некоторые из них, хорошо знают, что в Англии святые законы складывались вековым обычаем и мнением, прежде чем устанавливались обязательно; они также знают, что наши недавние учреждения по самой новизне своей и теоретичности составляют как бы пробу, требующую дальнейшего указания опыта, что в их подробностях такой-то параграф выработан вчерне таким-то начальником отделения, которого мы хорошо знаем в домашнем быту, не признавая за ним никакой святости. Они все это знают; но тут замешано слово: «присяжные от крестьян», и они уже не могут судить своим умом, они — рабы либерального слова, для оправдания которого подыскивают совершенно неподходящий пример Англии.
Идет речь о всесословной волости, неотложном вопросе текущего времени. Наша либеральная печать, так же как и прочие ее оттенки, признает эту необходимость; но она соглашается на нее только под условием, чтобы в новой волости помещики сравнялись с мужиками, а все должности оплачивались, то есть демократизировались, хотя главная потребность этого учреждения состоит именно в том, чтобы высвободить русский народ из-под мужичьего управления, становящегося для него нестерпимым.
Тщетно г. Марков и столько других, стоящих в прямом прикосновении с народом, высказывают несомненную истину, что у нас между крестьянством и господами нет розни, что наши крестьяне в своего брата не верят, что они полагаются больше на правду господ, а господином считают не какого-либо забредшего на их сторону студента, а своего местного, коренного помещика; что извращение законом естественных, вросших в нравы отношений может не устроить, а только еще более расстроить общество, и без того почти рассыпающееся.
Что за дело нашим присяжным либералам, хорошо или худо будет русским крестьянам, хорошо или худо пойдут дела в уездах? Они их и не увидят. Принцип равенства на бумаге, — вот что важно. Не менять же тона петербургской редакции из-за местных дел какого-нибудь далекого уезда.
Вот вопрос о пьянстве, возросшем до крайних пределов и составляющем язву нынешней России. Различие во взглядах на средства к пресечению зла очень понятно; но какое же различие могло бы обнаружиться, кажется, в суждении о необходимости каких-либо мер для этой цели. Известно, что чем общество образованнее, тем более оно заботится о народной нравственности, чем либерал искреннее, тем он ближе принимает к сердцу народное благосостояние, в корне подсекаемое пьянством. Тут-то именно, на почве питейного вопроса, следовало ожидать единодушия всех либеральных органов печати. Да, но только не русских. Для русской либеральной печати существуют одни отвлеченные права человека, а не потребности действительного лица. Во имя этих прав большинство ее ополчилось за свободу пьянства против мер к его пресечению.
Довольно примеров. Пусть укажут нам единый случай, единый общественный вопрос, в котором наша так именуемая либеральная сторона сохранила бы практическую самостоятельность суждения и не оказалась бы крепостью лелеемых ею модных (в кругу ее публики) слов. Она сохраняет целиком старинную мифологию метафизических существ, либеральных отвлеченностей, избираемых, разумеется, по собственному вкусу, и поклоняется ей по-язычески. Немудрено, что пред ее идеалом даже славянофилы оказываются тугими консерваторами; идеал ее — не какая-либо действительность, а либерально-аллегорический Олимп. Какая быль может поравняться со сказочной аллегорией?
Эта мифология имела на первых порах сильное влияние на русское общество, потрясенное в своих обычных верованиях разочарованием, последовавшим временно за крымской войной, но тут было главнейше влияние новизны, разлетевшееся само собой. Привычная робость перед громкими словами удержалась у нас в некоторой степени и до сих пор; она должна удержаться, покуда сложившаяся общественная жизнь не распределит их по достоинству, не даст сомнительным из них достаточный, видный для всех отпор.
Но громадное большинство, не решающееся покуда, по своей бессвязности, восстать явно против навязываемых ему призраков, уже не верит им, — в этом может убедиться всякий, выезжающий за петербургскую заставу. Понятно, что при таком настроении большинства наша метафизическая либеральная печать утратила всякое значение; но понятно также, что в головах этого общественного большинства, из которых еще прежде бессодержательный либерализм, ныне испаряющийся сам собой, вытеснил большую часть отеческих заветов, остались только пустота и равнодушие ко всему.
Легко выразить в двух словах сущность мнений нынешней левой стороны, откидывая, конечно, ее крайнюю оконечность: если б их можно было выпаривать в котле, общие места улетучились бы и на дне осталось бы: некоторое количество добрых намерений, немало личных дарований, очень много спекуляции и смутная, ныне почти уже бессознательная закваска, сохранившаяся от разлива нигилизма пятидесятых годов.
Эту закваску, сохранившуюся и до сих пор в довольно чистом виде, хотя в микроскопических размерах, стоит разобрать особо. Как общественная группа, она ничтожна, ограничиваясь преимущественно несовершеннолетними; как признак общественного состояния, она имеет свое значение. Надобно принять в соображение и ее, чтобы окончательно оглядеться в тумане современных русских мнений.
Материал создан: 16.08.2015