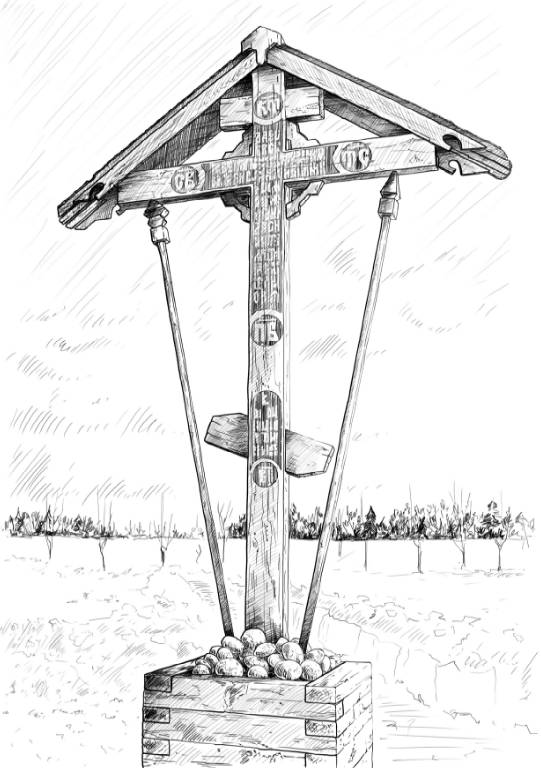Появление национализма не вытекает с неизбежностью из разделяемого нами примордиалистского подхода к этничности. Биологическая природа этничности не продуцирует сама по себе политический национализм или развитое национальное самосознание, а лишь открывает подобную возможность, формы и даже сама актуализация которой решающим образом зависят от конкретно-исторических обстоятельств.
То же самое можно сказать о популярной в теориях национализма связи модернизации и национализма, которая нередко трактуется весьма примитивно: модернизация-де автоматически ведет к национализму. Это, мягко говоря, не так. Модернизация создает важные необходимые условия национализма: массовое городское общество как главного потенциального потребителя националистической продукции, а также каналы и средства ее производства и распространения, но не производит национализм per se. Для его появления и распространения как минимум необходим производитель соответствующего продукта – интеллектуальная элита националистического толка.
Национализм генерируется интеллектуальной национальной элитой
Эти методологические замечания указывают на критическую важность анализа исторической констелляции, породившей русский национализм. Вопреки распространенному заблуждению, такая констелляция сложилась вовсе не при Иосифе Сталине, а при Никите Хрущеве. Хотя при «красном цезаре» произошел отказ от политики тотального подавления русского самосознания, русской культуры и даже самого русского имени в пользу инструментального использования русского этнического фактора, никакого русского национализма – хотя бы в виде дискурсивной формации – в то время не возникло, да и не могло возникнуть.
Как не могло появиться либерального западничества, социал-демократического реформизма и любого другого «изма». Очень уж тогдашняя среда не подходила для подобных культурных и идеологических экзерсисов. Поэтому попытка обнаружить в ней русский национализм – занятие по своей плодотворности сравнимое с поисками гуманистических мотивов в деятельности товариша Сталина. Не стоит смешивать мифы о сталинской эпохе с ее жестокой реальностью.
Именно правление Хрущева, как убедительно показал Брудный, имело решающее значение для формирования русского национализма. Хотя нет ни одного националиста, замолвившего доброе словечко о «всесоюзном кукурзнике», русские националисты точно такие же дети ненавидимой ими «оттепели», как их либеральные оппоненты. Появление первой, еще очень робкой диссидентской поросли во второй половине 50-х годов прошлого века оказалось возможным лишь благодаря десталинизации и общей либерализации советской жизни.
Причем среди первых диссидентских групп имелись и националистические: Народно-демократическая (1955–1958 гг.) и Российская национально-социалистическая (1956–1958 гг.) партии. Это были небольшие (не более 10–20 человек каждая) организации со смутными программами, но весьма радикальными целями: свержение «еврейско-комиссарского ига в СССР» и возрождение русской нации. Однако их деятельность была пресечена в зародыше и не успела оказать хоть какое-то влияние на общество. Даже о самом факте существования этих подпольных групп стало известно лишь благодаря историческим разысканиям 1990-х годов.
Неизмеримо большее значение имел легальный, подцензурный национализм, который также начал складываться во второй половине 50-х годов прошлого века. Хотя мощный первотолчок ему дала Великая Отечественная война – не случайно организационно-кадровое ядро русофильской фракции советской интеллигенции составили фронтовики, – именно хрущевская политика позволила националистическим настроениям кристаллизоваться и оформиться. Как культурно-идеологическая позиция и политическое мировоззрение русский национализм появился только благодаря хрущевской либерализации. В националистическом культурном истеблишменте советской эпохи отчетливо прослеживаются две возрастные волны: военное поколение (родившиеся в 1920–1925 гг.) и «дети оттепели» (родившиеся в 1926–1938 гг. и прошедшие социализацию в постсталинскую эпоху).
Прекращение террора, десталинизация и общая гуманизация жизни сформировали новую социокультурную ситуацию – с несравненно более высоким, чем прежде, уровнем свободы, включая свободу формулирования и выражения широкого диапазона культурно-идеологических взглядов. При Хрущеве для публичной дискуссии были «распечатаны» всего лишь две темы, но зато какие: состояние деревни и сталинизм! По старой, еще дореволюционной традиции площадкой для общественных дискуссий стали «толстые» литературные журналы, но сама эта традиция возродилась только благодаря хрущевской «оттепели».
Основным поставщиком продукции для журналов, зачинателем и модератором дискуссий в подавляющем большинстве случаев выступала интеллектуальная элита, а главным потребителем – верхние слои советской интеллигенции; впоследствии аудитория кардинально расширилась за счет подключения массовой интеллигенции.
Здесь к месту напомнить социологическую закономерность, отмеченную одним из корифеев «национализмоведения» Энтони Смитом: националистические движения обычно начинаются как культурные и приобретают политическое значение, рекрутируя участников из таких свободных профессий, как медицина, право и журналистика.
Но почему же произошла «национализация» части советской культурной элиты? Инерция мощного патриотизма военных лет, законное чувство национальной гордости победителей – самоочевидный фактор, не нуждающийся в дополнительном анализе. Не менее важно, что русский национализм был ответом на кризис идентичности – личной, групповой и общенациональной. Что имеется в виду?
Проделанный Брудным анализ социального профиля националистического культурного истеблишмента, показал, что главное социальное различие между русскими националистами и ненационалистами касалось происхождения: большинство видных националистов (точнее, 97 из 152, то есть 64 %) родилось и выросло в деревне или в маленьких городах. В их судьбе как в капле воды отразилась судьба русского крестьянства, перемолотого жерновами сталинской модернизации. В 1930-е гг. из деревни в город перебралось почти 27 млн крестьян, в 1939–1959 гг. – еще 24 млн. РСФСФ была самой урбанизированной, за исключением Латвии и Эстонии, советской республикой: в 1959 г. в ее городах жило 52 % ее населения, в 1970-м – 62 %.
Фундаментальным результатом осуществленного в сжатые сроки «великого переселения» русского народа стал целый спектр масштабных и глубоких социопсихологических и социокультурных реакций, которые обобщенно можно определить как кризис идентичности массы крестьянства, оказавшегося в принципиально новой для себя среде. (В целом для теорий национализма характерно акцентирование важной связи между социопсихологическими и социокультурными последствиями модернизации и подъемом национализма.)
Однако национализм элиты не был лишь выражением массовой крестьянской фрустрации, точнее, он был не только этим. Ведь жестокая сталинская модернизация открыла двери беспрецедентных возможностей для русских деревенских парней. Большинство националистических интеллектуалов, особенно принадлежавших послевоенному поколению, вовсе не были социальными аутсайдерами: они получили образование в лучших (сейчас бы сказали – элитных) учебных заведениях страны: в Литературном институте им. Горького, Московском и Ленинградском университетах и некоторых других столичных вузах, и занимали хорошие социальные позиции.
Но социальный успех дался им тяжело, ценой расставания с родным домом и привычным образом жизни. Эти люди пережили драматический кризис личной идентичности, выражавший и отражавший общий кризис традиционного русского крестьянства. Деревня и провинциальный городок были материнским лоном значительной части русского националистического истеблишмента, тем идеализированным прошлым, откуда они черпали свое творческое вдохновение и где искали рецепты переустройства современной им жизни.
Факт социального происхождения имеет важное значение для понимания национализма, точнее, этнической чувствительности писателей-деревенщиков, но не может служить универсальным объяснением. Ведь по крайней мере треть (точнее, 36 % из списка Брудного) видных националистических интеллектуалов не были детьми русской деревенской Атлантиды, а взросли на улицах больших городов. Более того, большинство из них выглядели типичными «детьми оттепели»:
- хорошее образование,
- престижная работа в гуманитарной сфере,
- участие в московских либеральных кругах,
- чувствительность к западным интеллектуальным влияниям
(в качестве ярких примеров можно упомянуть Вадима Кожинова и Петра Палиевского). Тем не менее, в середине – второй половине 60-х годов прошлого века эти рафинированные интеллигенты оказались в стане русских националистов.
Хотя в биографии каждого из них можно обнаружить какие-то индивидуальные интеллектуальные и культурные влияния (как, например, влияние Михаила Бахтина на молодого Кожинова и Алексея Лосева на Петра Палиевского) и экзистенциальные завязки, подвигшие именно к такому выбору, был еще и общий знаменатель. Трамплином для идеологического поиска интеллигентов послужило разочарование в хрущевском правлении и коммунистической политике вообще. Свернутая половинчатая либерализация, кровавое подавление народного восстания в Венгрии, импульсивный и плохо продуманный реформизм оттолкнули их от политики Хрущева и посеяли сомнения в возможности реформирования советского коммунизма. Вновь, как в первой половине XIX в., в поисках идеологической альтернативы отечественная интеллигенция двинулась в двух расходящихся направлениях: либерально-западническом и автохтонно-почвенническом. И как сто лет тому назад рядом с ними существовал влиятельный консерватизм, означавший в том историко-культурном контексте реабилитацию Сталина и его наследства.
Дрейф части городских либеральных интеллигентов в сторону славянофильства был культурной и интеллектуальной реакцией на хрущевскую политику.
Экологическое варварство (возведение гидроэлектростанций, приведшее к затоплению ряда обширных русских территорий и строительство целлюлозно-бумажного комбината на Байкале) и разрушение традиционной историко-культурной среды (уничтожение старой Москвы и исторической застройки ряда русских городов), мощная антирелигиозная кампания, вызывавшая в памяти тяжелые реминисценции с политикой 20–30-х годов XX в., новая политика идентичности (формирование «советского народа»), рассматривавшаяся как покушение на этнические идентичности, – этого было более чем достаточно, чтобы вызвать непонимание, обиду и гнев городских интеллектуалов. У выходцев из деревни к этому добавлялось недовольство продолжавшейся и при Хрущеве социальной дискриминацией русского села.
Официальная политика по принципу «от обратного» стимулировала поиски национальных корней, разворот к русской почве. В то же время десталинизация и смягчение режима сделали культурное движение в сторону русскости допустимым, хотя и политически сомнительным. Запретный плод русскости выглядел тем более желанным, что запрещал его все более непопулярный и комедийно выглядевший властитель. А пряный привкус оппозиционности и вольнодумства придавал этому культурному поиску особое очарование, ведь, в отличие от сталинской эпохи, квазиполитическая фронда была отныне не только возможна, но даже стала поощряться в интеллигентской среде, воспроизводившей традиционный стереотип поведения в отношении власти: внешне соглашаясь, держать фигу в кармане.
Расщепление интеллигентской среды на, условно, три культурно-идеологических течения имело очевидную этническую подоплеку. Русские националисты, точнее, симпатизанты русской этничности, а также консерваторы-сталинисты были преимущественно или даже почти исключительно русскими, в то время как смыслообразующее и организационно-кадровое ядро либерально-реформистского лагеря составляли этнические евреи. Хотя русских в нем было изрядно и количественно, они, вероятно, даже превалировали, смысловое и организационное ядро диссидентства составляли именно евреи.
По словам Геннадия Костырченко, автора монументальной и вполне юдофильской книги о сталинской политике в отношении евреев, костяк диссидентского движения составляла интеллигенция еврейского происхождения.
Более того, еврейская этничность и отношение к ней стало своеобразным опознавательным знаком, символом либерально-западнического выбора вообще. Постфактум эту ситуацию весьма откровенно описала литератор Лариса Васильева:
«В нашем литературном мире, разделенном на правых – славянофилов и левых – западников, лакмусовой бумажкой для определения принадлежности писателя к тому или иному лагерю был еврейский вопрос. Если ты еврей, значит, западник, прогрессивный человек. Если наполовину – тоже. Если ни того, ни другого, то муж или жена евреи дают тебе право на вход в левый фланг. Если ни того, ни другого, ни третьего, должен в творчестве проявить лояльность в еврейском вопросе. Точно так же по еврейскому признаку не слишком принимали в свои ряды группы правого, славянофильского фланга».
Со второй половины 1960-х гг. корреляция этничности и культурно-идеологической позиции приобрела сильный характер, придав квазиполитической полемике черты этнического конфликта, что, в частности, выразилось в популярных взаимных инвективах-стереотипах брежневской эпохи:
- с одной стороны, «все евреи – диссиденты, все диссиденты – евреи»;
- с другой – «все почвенники – антисемиты»,
русскость per se = антисемитизм и фашизм
Отметим, что для «асфальтовых» националистов типа Кожинова и Палиевского антисемитизм служил компенсацией предшествующей интеллектуальной и культурной зависимости от еврейской среды. По откровенному признанию самого Кожинова, до знакомства с Бахтиным он пребывал в уверенности, что русских интеллигентов-гуманитариев попросту не существует, что все интеллигенты – исключительно этнические евреи или с еврейской примесью.
В этом ракурсе бунт против авторитетов и наставников, коими были евреи, неизбежно приобретал антисемитские черты, а антисемитизм оказался рядоположен стремлению к культурной и интеллектуальной эмансипации.
Ведь евреи не только заняли нишу, принадлежавшую разгромленной большевиками старой русской интеллигенции, но и, по мнению остатков последней, активно участвовали в этом погроме.
Подобной точки зрения, в частности, придерживались такие культовые, как сказали бы сейчас, фигуры в интеллигентской среде, как Бахтин и Лосев.
Разумеется, антисемитизм не сводился к одному лишь этому фактору, а имел широкий круг будировавших его причин. Однако в любом случае есть какая-то злая ирония в том, что критерием принадлежности к русскому национализму, паролем русскости зачастую (что не значит – всегда) оказывалось не отношение к русским, а отношение к евреям.
Резюмируя соображения о причинах появления русского национализма, еще раз повторим: национализм (в более широком смысле – интерес к русской этничности) стал ответом на кризис идентичности, имевший несколько измерений =
- личное (экзистенциальный и культурно-идеологический кризис интеллектуальной элиты),
- групповое (кризис традиционного русского крестьянства) и
- общенациональное (кризис политико-идеологической идентичности советского общества вследствие десталинизации и разочарования в хрущевской альтернативе сталинскому социализму).
Хотя в хрущевское правление русский национализм носил еще зачаточный характер, именно в то время возникли структурные факторы его оформления в качестве самостоятельного культурно-идеологического и политического течения. Так что ненавидимый и презираемый националистами «Никита-кукурузник» объективно, вопреки своей воле сыграл роль повивальной бабки русского национализма.
Материал создан: 12.07.2015