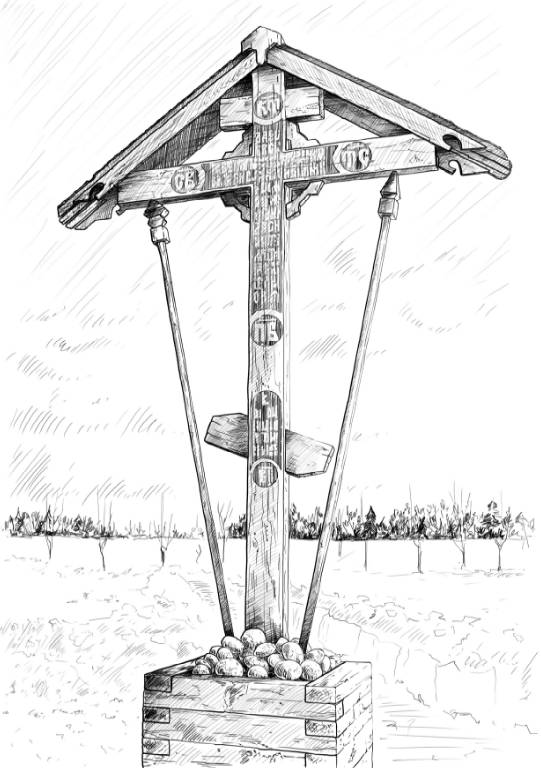С точки зрения авторов книги, именно концепт «революции» обеспечивает наиболее адекватное теоретическое прочтение постсоветского развития – не только России, но и всего постсоветского пространства. Прежде чем объяснить, почему мы так считаем, вкратце напомним, что такое революция.
Конвенциональное определение революции в современной социологии следующее: «Это попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть». Характерно, что в определении ничего не говорится о содержании революции и ее последствиях: социально-политическом характере нового строя, постреволюционном экономическом развитии, социальной эмансипации и т. д.
Дело в том, что подобные вопросы никоим образом не влияют на классификацию конкретно-исторического процесса/феномена как революционного. События в Италии 1923 г., Германии 1933 г. и Иране 1979 г. были полноправными и весьма масштабными революциями, хотя отнюдь не прогрессистского типа. Убеждение, будто революции непременно должны вести в конечном счете к прогрессу человечества, не имеет ровно никаких теоретических и конкретно-исторических подтверждений.
Все с точностью до наоборот. История свидетельствует, что, за несколькими исключениями, практически все революции вели не к экономическому и социальному прогрессу, а к длительному упадку. Форсированное экономическое развитие, порою воспоследовавшее за этим упадком, как, например, в СССР и красном Китае, невозможно непосредственно вывести из революции. После этого – не значит вследствие этого. Весьма вероятно, хотя недоказуемо, что такое развитие могло иметь место и без революции. Не говорим уже, что цена такого развития может оказаться столь высокой, что ведет к гибели нового государства, как это в конечном счете и случилось с Советским Союзом, где социалистическая модернизация надорвала силы русского народа – станового хребта государства и главного источника ускоренного развития. Так или иначе, ни один революционный режим не сумел «обеспечить массовых экономических инноваций и активного предпринимательства, необходимых для стремительного и непрерывного экономического роста».
В России конца XX в. произошла отнюдь не рядовая, а системная революция. Ее значение вышло за локальные отечественные рамки, хотя явно не дотянуло до исторических масштабов Октября 1917 г. Начавшись как классическая революция сверху (реформы Михаила Горбачева), она переросла в революцию социальную (массовые движения протеста снизу) и политическую (трансформация государственных институтов), а затем и системную (одновременная трансформация экономических и социальных структур и политических институтов). Результатом стала кардинальная смена общественного строя: на смену советской политической и социоэкономической системы пришла качественно новая, существо которой наиболее точно схватывает термин «капитализм». Но даже если предложить другое название последней русской революции – скажем, «антикоммунистическая» или «демократическая» – это не меняет революционной сути процесса. С теоретической и практической точек зрения значительно более важно понять, завершилась ли Великая капиталистическая революция в России или же нет.
Вообще вопрос о завершении революции открывает возможность изощренной теоретической казуистики. В теории революций четвертого поколения выделяют так называемые «слабый» и «сильный» варианты определения финальной точки революции. В слабом варианте революция заканчивается тогда, когда «важнейшим институтам нового режима уже не грозит активный вызов со стороны революционных или контрреволюционных сил». Исходя из этого, Великая французская революция завершилась в термидоре 1799 г., когда Наполеон захватил власть; Великая русская революция – победой большевиков над белыми армиями и консолидацией политической власти в 1921 г. Первая русская революция – Смута, скорее всего, завершилась между 1613 г., когда Земский собор избрал новую династию, и 1618 г., когда, согласно Деулинскому перемирию, поляки в обмен на территориальные уступки прекратили военные действия против России.
Правда, постреволюционное состояние общества нельзя назвать нормальным; оно сравнимо с тяжелейшим похмельем после кровавого (в прямом и переносном смыслах) пира или постепенным выходом человека из тяжелейшей болезни. Судя по отечественному опыту, на выздоровление после революции могут уйти десятки лет.
И здесь мы переходим к сильному определению: «Революция заканчивается лишь тогда, когда ключевые политические и экономические институты отвердели в формах, которые в целом остаются неизменными в течение значительного периода, допустим, 20 лет». Эта формулировка не только развивает, но и пересматривает слабое определение. Получается, что французская революция завершилась лишь с провозглашением в 1871 г. Третьей республики; Великая русская революция – в 1930-е гг., когда Иосиф Сталин консолидировал политическую власть, а под большевистскую диктатуру было подведено экономическое и социальное основание в виде модернизации страны. Более того, окончательное признание коммунистического режима русским обществом, его, так сказать, полная и исчерпывающая легитимация вообще относится к послевоенному времени. Лишь победа в Великой Отечественной войне примирила большевистскую власть и народ.
Изрядный хронологический разрыв между «минималистским» и «максималистским» определением завершающей стадии революции логически хорошо объясним. Самая великая системная революция не способна одновременно обновить все сферы общественного бытия, как об этом мечтают революционеры. Самая незначительная революция способна вызвать долговременную и масштабную динамику.
Сильное и слабое определения вполне применимы к русской революции, современниками которой мы все являемся. В минималистском варианте она завершилась, вероятно, передачей власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину и консолидацией последним политической власти, то есть в течение первого президентского срока Путина. Но вот что касается «отвердения» ключевых политических и экономических институтов, и главное, приятия их обществом – вопрос остается открытым.
Качественное отличие последней русской революции от предшествующих в том, что русские вошли в нее изрядно ослабленным народом, последствия чего оказались двойственными. С одной стороны, витальная слабость русских обусловила сравнительно мирный (по крайней мере, на территории РСФСР) характер этой революции. Проще говоря, у них не было ни сил, ни куража проливать кровь ради идеальных, трансцендентных целей и ценностей – не важно, спасения коммунизма, перехода к демократии или возрождения Третьего Рима. С другой стороны, эта же слабость русского народа служит ключевым фактором, определяющим саму возможность (не)выхода России из кризиса и перспективы национального строительства. Реальность такова (и она всегда была такой), что будущее России есть производное от состояния русского общества.
По-хорошему, этому обществу требуется длительная социальная реабилитация, чтобы вернуться в более-менее сносное, человеческое состояние после хаотического десятилетия 1990-х гг. Более длительная, чем передышка НЭПа, отпущенная большевиками русскому крестьянству. В общем, нужны те пресловутые двадцать или тридцать лет спокойствия, о которых в свое время мечтал Петр Столыпин и которые обеспечила пресловутая брежневская «эпоха застоя». Правда, в брежневскую же эпоху созрели условия для очередной русской революции, а Россия Столыпина вообще не получила искомой передышки. Получит ли ее современная Россия? Завершилась ли последняя русская революция?
Этот вопрос не имеет однозначного и окончательного ответа. Если исходить из слабого определения, безусловно, завершилась: нет сил, способных бросить вызов режиму, консолидировавшемуся при Путине и продолжившему свое существование при Медведеве. Но вот возможность применения сильного определения – отвердение ключевых политических и экономических институтов в течение длительного времени, общественная легитимация статус-кво – вызывает серьезные сомнения.
Вряд ли можно утверждать, что Россия отвердела институционально, что в ней установлены четкие правила игры, которые приняты обществом в целом. По иронии истории, главным препятствием для отвердения оказалась именно правящая группа. Казалось бы, больше других заинтересованная в установлении долговременного статус-кво, она постоянно нарушает и без того нечеткие правила игры, выступая источником дестабилизации похлеще всех актуальных (надо признать, откровенно жалких) русских оппозиционеров и революционеров. Ведь «источник власти и богатства бюрократического класса – это контроль за изменением правил, а никак не соблюдение их на протяжении продолжительного периода времени. Стабильность в более или менее точном понимании этого слова смертельно опасна для всех без исключения представителей властной элиты и потому попросту недостижима в современной России».
Вывод парадоксален: главным источником потенциальной дестабилизации России оказывается правящий класс. Постоянно индуцируя волны нестабильности, он управляет страной в режиме «управляемого хаоса», от которого к хаосу неуправляемому – лишь один шаг. При этом качество правящей элиты (в известном смысле – российских элит вообще) таково, что кризисы, причем все большей социальной цены, становятся попросту неизбежными.
Эта неизбежность вызвана формированием российской политико-бюрократической элиты по принципу негативной селекции, отрицательного отбора: начальник должен выглядеть вершиной на фоне своих подчиненных, что, естественно, ведет к прогрессирующему снижению компетентности, эффективности, да и просто деинтеллектуализации. При этом антимеритократический норматив навязывается обществу в целом. Факт, что в России самая известная балерина славна скандалами и сплетнями, а не танцем; что можно стать эстрадной звездой, не имея ни голоса, ни слуха; что модные писатели не знают русской грамоты; что в выступлениях медийных интеллектуалов («говорящих голов» нашего ТВ) глупость, ложь и цинизм заметно перевешивают правду и смысл; что после просмотра ТВ и чтения газет хочется вымыть глаза и душу и т. д.
Новым социополитическим и экономическим институтам просто не дают отвердеть. Не дает именно правящий класс, генерирующий фундаментальную нестабильность, навязывающий обществу негативные социальные и культурные образцы, работающий, так сказать, на «понижение» социокультурного качества, ухудшение человеческого материала.
В более широком смысле фундаментальным фактором нестабильности остаются отношения власти и общества, государства и русского народа. Ведь что, на самом деле, служит главным итогом революции, если экономическое процветание в ее результате не достигнуто, а вдохновляющая утопия социального освобождения на деле оборачивается своей противоположностью? Обобщенным революционным результатом оказывается государство, способное развязать узел дореволюционных противоречий и которое выглядит в перспективе общественного мнения эффективным и справедливым, точнее, более эффективным и более справедливым, чем государство, разрушенное революцией. Что же представляет собой современное российское государство?
Мы вкратце выскажемся на сей счет, сфокусировав внимание не на характере режима, а на социальной онтологии. Переход от описания проявлений и форм к анализу социальной сущности государственно-властной конструкции открывает, без преувеличения, драматическую перспективу.
Вектор эволюции современной России (а в некотором смысле, и всего иудейско-христианского мира) составляет демонтаж социального государства (welfare state) и переход к иному социальному качеству. Какому же? Его определяют как неокорпоративное, неолиберальное, олигархическое государство.
Несмотря на терминологические различия, исследователи близким или идентичным образом характеризуют сущностные признаки такого государства. Впечатляющее совпадение и взаимодополнение, за исключением некоторых нюансов, теоретических описаний государства наталкивает на следующую важную мысль: Запад и Россия находятся в общем векторе историко-культурного развития, движутся в одном направлении, хотя и находятся на разных стадиях этого движения.
Характерообразующие черты государства, которое формируется на наших глазах – в России быстрее и открыто, на Западе – медленнее и завуалировано, следующие. Во-первых, такое государство рассматривает общенациональные интересы сквозь призму групповых и корпоративных, которым отдается безусловный приоритет при проведении любой политики. В своем поведении оно руководствуется исключительно экономикоцентрической логикой, стараясь минимизировать социальные и антропологические инвестиции. Дэвид Харви называет сей процесс реставрацией классовой власти, и этот исторический реванш может рассматриваться как высшая точка капиталистического развития.
Вторая принципиальная черта неокорпоративного государства – отказ от определения, что справедливо, а что нет, составляющего главную прерогативу и смысл существования государства (Аристотель). Это подрывает легитимность государства и взрывает социальный космос. В метафизическом плане такое государство оказывается агентом Хаоса, противостоящим Космосу как порядку-справедливости.
Тем самым третьей основополагающей чертой неокорпоративного государства оказывается его субстанциальная враждебность человеческому типу социальности и, соответственно, объективно разрушительный характер в отношении человеческого общества. Западные авторы указывают, что размывание welfare state угрожает возвратом к классовой войне глобального масштаба.
Показательно, что теоретическая модель Харви прекрасно, почти один к одному накладывается на современное нам российское государство, но в отношении Запада она описывает не столько его актуальное, сколько находящееся в потенции, прогнозируемое состояние. Другими словами, она больше подходит современной России, чем современному Западу, что объясняется опережающим по отношению к Западу развитием России: в ней уже возникло и вовсю функционирует то, что на Западе лишь наметилось в качестве тенденции, которая не обязательно разовьется. На Западе движение в направлении неокорпоративного государства встречает мощное сопротивление гражданского общества, в то время как в России оно идет практически беспрепятственно.
Лаконично, но емко современную российскую ситуацию характеризует формула Ульянова-Ленина столетней давности о России как самом слабом звене мировой капиталистической системы. Эта слабость вызвана одновременной концентрацией неразрешенных противоречий старой, социалистической, и появлением противоречий новой, капиталистической, эпох, причем в капиталистическом развитии Россия в некоторых отношениях перегнала Запад (что вообще нередко случается с теми, кто поздно стартовал и спрямил исторический путь). В то же время в России разрушены социальные и культурно-идеологические механизмы стабильности старой эпохи и не созданы механизмы новой стабильности, новая страховочная сетка. В общем, как говаривал в советское время знакомый диссидент: страна беременна новой революцией. Правда, это как раз такой случай, когда можно всю жизнь ходить беременным, но так и не разрешиться от бремени.
Мы без обиняков утверждаем, что интересы российского государства (не важно, называть его неокорпоративным, неолиберальным или олигархическим) субстанциально враждебны интересам общества. Впрочем, русские люди и без аналитических выкладок давно знают или догадываются об этом, как знают цену своему государству. Признавая его нормативную важность, – в этом смысле маятник нашей истории действительно прошел крайнюю точку анархии, – они крайне низко оценивают актуальное государство. Лишь 17,1 % граждан страны считают нынешний строй справедливым, эффективным и подходящим для России на перспективу.
В то же время самотрансформация подобного государства в нечто более гуманное и общенациональное невозможна в силу антропологической природы конституировавших его кланов. Поэтому единственный шанс общества защитить свои права – в борьбе, единственная возможность изменить свою участь и вернуться на путь социального прогресса – в сносе государственно-властной машины и изменении вектора развития.
Случись подобное капитальное изменение, оно по сути своей будет революцией, точнее, второй революционной волной после временной стабилизации. Революцией была бы даже трансформация несравненно меньшей глубины и масштаба – снос «управляемой демократии», то есть фасада классовой власти. Правда, первая революция была бы системной, вторая – политической.
Присоединяясь к аналитическому мнению о встроенных дефектах и слабостях режима «управляемой (имитационной) демократии», мы не разделяем наивных упований, будто его крах станет переходом к демократии подлинной, настоящей, – подобная точка зрения имплицитно или эксплицитно выражена в многочисленных анализах политического режима в России. Нет никакого «железного» закона социальных наук о неизбежности перехода к демократии. Желательно нам – не значит предопределено. Не говорим уже об исторически совершенно не оправданном прогрессизме подобных теоретических конструкций (развитие от плохого к хорошему, от хорошего – к лучшему). На смену «управляемой демократии» как стыдливого полуавторитаризма, демократического фасада сущностно недемократической власти вполне может прийти «железная пята» – открытое классовое господство, откровенный авторитаризм. Это ведь тоже будет революцией!
Схематично можно говорить о двух типах противоречий, характерных для современной России. Первый тип – это фундаментальный, почти онтологический конфликт русского общества и неолиберального государства. Второй тип – конфликты и противоречия в рамках политической системы. Эти конфликтные линии пересекаются, но не совпадают. Разрешение противоречий второго типа не обязательно приведет (а скорее всего вообще не приведет) к разрешению онтологического конфликта между обществом и государством.
Однако в данном случае важнее другое: само по себе наличие серьезных конфликтов как потенциальной почвы революции не обязательно ведет к ней. Более того, «закономерность» и «неизбежность» революции устанавливается лишь постфактум, посредством своеобразной ретроспективной телеологии. Другими словами, зная результат, мы будто бы в состоянии установить вызвавшие его причины и реконструировать приведший к нему процесс. Однако, хотя историческая социология и претендует на определение ключевых условий возникновения революции, еще ни одна революция не была предсказана учеными мужами.
Тем не менее, с теоретической и политико-практической точек зрения чрезвычайно поучительно применить выработанную теоретическую схему к феномену «цветных революций» и экстраполировать ее на Россию.
Материал создан: 12.07.2015