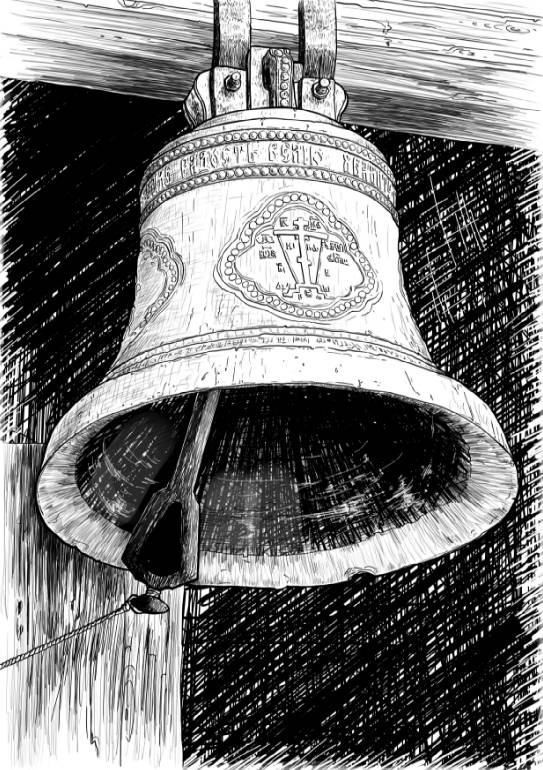Парни и девушки встречаются часто: в будничные дни они встречаются на работе, в праздничные дни на гулянье, а в осенние и зимние вечера в специальных собраниях молодежи, называемых «беседами». Из игр в беседе самая употребительная и любимая — «в соседи», так как она дает возможность посидеть рядом с «предметом» {обыкновенно мужчины сидят все вместе на отдельной скамье). Кроме того, девицы поют
песни; в каждой упоминается имя одного из присутствующих парней; парень, для которого поется песня, выбирает одну или двух девушек и когда кончат песню, целует их. Для примера привожу песню, в которой, по-моему, наиболее определенно выражены требования, которым должен удовлетворять деревенский «герой».
В статье «Русофобия как идеология» (ВН-13) я попытался описать русофобию не как определённого типа отношения к России и русским, а как цельный комплекс идей и исторических трактовок, который имеет свой вполне прослеживаемый генезис и развитие. Однако у этого явления есть и другая сторона – русофобия как практика, то есть целенаправленные действия по уничтожению чего-либо русского, причём именно как русского. Здесь вряд ли можно найти единую систему таких практик, скорее это набор очень разнообразных методов устранения русскости в самых разных её аспектах и проявлениях. Многолетняя история их применения позволяет говорить об их систематичности, а значит и важности их описания.
Российская идентичность мусульман Северного Кавказа:
исторические особенности формирования и проявления в кризисных условиях
на рубеже XIX — начала XX вв.
Монография. Матвеев Владимир Александрович
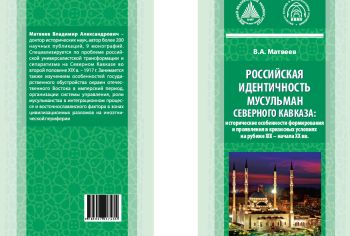
В монографии анализу подвергается цивилизационная специфика северокавказской окраины Российской империи. Наряду с конфессиональными аспектами проводившейся политики в приложении рассматриваются также демографический и экономический факторы, обуславливавшие развитие интеграционного процесса. Исследование рассчитано на широкий круг специалистов, научных работников, преподавателей и студентов высших учебных заведений, интересующихся особенностями формирования отечественного мусульманства, историческим опытом проявления его патриотического потенциала в условиях возникновения различных угроз для российской государственности. Материалы могут быть использованы в том числе для чтения спецкурсов.
[pagelist_ext limit_content="200"]
Актуальность темы
Конструированию различных сепаратистских проектов на Северном Кавказе способствуют в значительной мере, как известно, ретроспективные искажения, основанные на негативном отображении реалий формирования государственного единства края с Россией. Какая опасность исходит от таких презентаций прошлого можно, в частности, проследить по востребованности их в религиозной доктрине ваххабизма, одной из радикальных разновидностей ислама. Нацеленность ее на подрыв устоев российского федерализма опирается прежде всего на утверждения о насильственном присоединении.
Оправдывается с помощью соответствующих исторических обоснований и террористическая деятельность, подчиненная так или иначе достижению независимости. «Моджахеды Кавказа» призываются к началу «освобождения… от русских оккупантов»4. В качестве конечной цели борьбы предлагается «исламское государство», охватывающее территорию «от Каспийского до Черного и Азовского морей» с отнесением северной границы к пределам донских степей. Кавказ после этого, по мнению идеологов, должен стать «Великой Державой», которой Россия платит «налоги за нанесенный ущерб».
Однако такая перспектива не получила поддержки у населения, не воспринявшего «ценности ваххабизма» и намерений отделения от России под какими бы то ни было предлогами, в том числе и религиозными. Отсутствие массовой опоры вынуждены были также признать сторонники других разновидностей северокавказского сепаратизма. В проектах разрушения российской государственности содержатся и скрытые механизмы, представляющие не меньшую угрозу.
В условиях современных вызовов патриотический потенциал российского мусульманства как и ранее оказывается тем не менее не востребованным. На наличие такого феномена впервые обращено внимание в брошюре крымско-татарского просветителя Исмаила бея Гаспринского (1881). Между тем российское мусульманство как наследие прошлого остается до сих пор не изученным. Существование его проявлялось неоднократно с возникновением внешних и внутренних разрушительных для общего отечества вызовов. Интеграционный потенциал российского мусульманства для его сохранения обнаруживался в реалиях прошлого чаще всего неожиданно.
Так, в самый тяжелый для страны период германского вторжения, приходившийся на 1941–1943 гг., северокавказские муллы объявили газават против фашистов, так и не нашедший по вполне понятным идеологическим соображениям поддержки у Москвы. Находились среди них и те, кто всячески поддерживал агрессоров, надеясь на реализацию в той или иной форме своих сепаратистских замыслов. По инициативе этой части мусульманского духовенства Северного Кавказа Гитлер был провозглашен «великим имамом». Однако призывы такого рода не находили широкой поддержки. Представители всех без исключения народов края пополнили ряды тех, кто защищал родину. При аналогичных обстоятельствах это происходило и ранее. Мусульманское духовенство неоднократно способствовало формированию патриотических настроений, в которых Россия являлась определяющим фактором.
Отражая мнение верующих, оно не поддержало и попытки разделения российской государственности в постсоветскую эпоху. Прослеживалось это по всем входящим в ее состав субъектам. Особо следует отметить усилия муфтия Чечни А. Кадырова, внесшего вместе с тем весомый вклад благодаря своему авторитету в укрепление позиций традиционного ислама. Российское согражданство было сохранено при поддержке и других представителей мусульманского духовенства. Объективные предпосылки для этого, безусловно, существовали. Неслучайно при разрешении, например, «чеченского кризиса» тенденция на единство с Россией лишь усиливалась.
Даже Х.-А. Нухаев, один из организаторов сепаратистского сопротивления, вынужден был констатировать невозможность отделения значительной части вайнахов, признающих ее своей родиной. С учетом этой реальности им была предложена формула урегулирования конфликта «одна страна – две системы», предусматривавшая обособленное обустройство лишь для тех, кто боролся за «национальную независимость». В разных аспектах этот проект подвергался уже обоснованной критике1, и его утопичность в ней убедительно, на мой взгляд, доказана.
Объектом же предпринимаемого исследования избрана цивилизационная специфика северокавказской окраины Российской империи. Предметом анализа являются российское мусульманство на Северном Кавказе, исторические особенности его формирования, взаимодействия с другими отечественными конфессиями, проявление в условиях революционной экстремальности. Исследование соответственно затрагивает преимущественно вторую половину XIX – начало XX в., включая период 1917–1920 гг.
Степень изученности
Когда именно в России стал проявляться интерес к осмыслению мусульманского вероучения, наукой не установлено. Можно лишь с полным основанием отметить, что переводы Корана в ее пределах обрели известность уже во второй половине XVII в. Производились они в тот промежуток времени с польских изданий. Как бы там ни было, но «Алкоран Махметов» приобретали для своих частных библиотек видные государственные деятели, хотя знакомство с его содержанием судя по всему было еще не столь значительным. Однако перевод на русский язык 1716 г. имел уже более широкое распространение. Такие издания Корана предпринимались и в дальнейшем. Появлялись вместе с тем ознакомительные публикации о мусульманстве. В XIX в. Россия в освоении исламской культуры занимала уже лидирующие позиции.
Подтверждением этому является в том числе издание в 1848 г. типографией III отделения «собственно Его Императорского Величества канцелярии» размышлений об отечественном мусульманстве, отразивших в доступной форме уважительные заметки православного автора об основах вероучения. Резолюцию «печать позволяется» наложил «От Санктпетербургской Духовной Цензуры… Архимандрит Аввакум». Надзор в виде духовной цензуры в Российской империи устанавливался для книг только религиозного содержания и предназначался в том числе для противодействия образованию сект во всех без исключения конфессиях.
Несмотря на полемичность описаний, автор «Писем о магометанстве» отвергает малейшую возможность оскорбить соотечественников другой веры «не только словом, но даже неприятным для них помыслом». По его признанию, «одна только искренняя к ним любовь побуждает… говорить». В прилагавшихся комментариях об исламе разъясняется для тех, кто поставлен управлять Кавказом в непростое время разъяснялось, что «строгое исполнение нравственных правил Корана, в котором есть… много назидательного», должны сделать каждого подданного этой российской окраины «прежде искренним Магометанином».
Такие рекомендации в преобладающей степени и формировали российскую политику, хотя на том этапе и признавалась отдельными представителями православного духовенства предпочтительность «христианизации». Ставка на ислам в проводившейся политике осуществлялась и впоследствии. Во «Всеподданнейшем отчете за восемь лет управления Кавказом» наместником его императорского величества И.И. ВоронцовымДашковым выделяются благоприятные для интеграции изменения в конфессиональной сфере, обосновывается необходимость повышения уровня образованности мусульманского духовенства (1913).
Деятельность русских благовестнических миссий на окраинах с применением ретроспективных сопоставлений отражено в этнографическом очерке И. Беляева (1900). Об отношении церкви к исламскому исповеданию, равно как и к другим, свидетельствует хотя бы то, что «православная Казань», к слову, распространяла, как пишет исламовед М.А. Батунский, «посредством своих типографий… мусульманские издания по всей России». М.А. Миропиев описал с опорой на непосредственное знание вероучения «религиозное и политическое значение хаджа», представив его как «священное путешествие мухаммедан в Мекку» (1877). Для познания ислама переводились на русский язык также издания, осуществлявшиеся за границей. На рубеже XIX – начала XX вв. в России публикуются работы А. Мюллера (1895), Р. Дози (1904)27 и др. История ислама А. Мюллера выпущена под редакцией приват-доцента Н.А. Медникова.
Научное обеспечение переводам трудов зарубежных авторов оказывалось и Лазаревским институтом восточных языков. Работавший в нем профессор арабской словесности А.Е. Крымский написал, в частности, предисловие и редакционные примечания к книге Р. Дози. В приложении к ней помещена статья И. Гольдциэра «Идеалы старо-арабские и идеалы Мохаммеда». Выпускались монографии и российских исламоведов В. Череванского (1901)2, Н. Остроумова (1912)30 и др. О глубине их исследований свидетельствует хотя бы то, что различия (мазхабы) выделялись даже в мусульманском праве (шариате). Литература такого содержания издавалась типографией «Туркестанских ведомостей» при канцелярии генералгубернатора края в Ташкенте.
В советский период развития отечественной исторической науки на публикации об исламе наложилась схема, предполагавшая отображение контрреволюционной сущности любой религии. В преломлении противостояния «красных и белых» выдержаны были появившиеся уже в 1922 г. воспоминания непосредственного очевидца событий на Северном Кавказе К. Бутаева, в которых содержалась информация и о «шариатском движении Узуна-Хаджи». В выпущенных очерках К. Василевского (1930)3, Л. Климовича (1936)34 отечественное мусульманство соотносится с «реакцией», направленной на сохранение пережитков прошлого.
В книге Н.А. Смирнова «Мюридизм на Кавказе» (1963)35 изложена получившая распространение в XIX в. версия в толковании ислама, обосновывавшая необходимость «священной войны» («газавата») против России. Реакционная роль мусульманства отображалась и в преломлении национальных отношений. Освещение же специфики конфессиональной ситуации на северокавказской окраине России на рубеже XIX начала – XX вв. под воздействием атеистической пропаганды несколько сужается.
По теме ислама выпущена лишь книга А.В. Авксентьева (1973). Оценка мусульманства в ней попрежнему дается с сугубо негативных позиций. Монографическое обобщение А.В. Авксентьева, также как и все отмеченные публикации, вносили, несмотря на идеологические издержки в советский период разработки исторических знаний о периферии отечественного Востока, определенный вклад в осмысление проблемы. Однако в них по понятным причинам не показывалась консолидирующая роль для государства отечественного мусульманства и иных религий.
Только в постсоветскую эпоху стали появляться разработки так или иначе отражающие роль исламского фактора в российском цивилизационном контенте на разных этапах его формирования. В очерках В.О. Бобровникова впервые показано использование обычного права и шариата в нагорном Дагестане в условиях перемен, вызванных интеграционными процессами в имперское сообщество (2002). Отношение к исламу в России раскрывается в исследовании М.А. Батунского (2003).
В нем также воссоздается практика преодоления разломов географических зон (контактных ареалов), обладавших сложной религиозной спецификой из-за наследия несхожих цивилизаций. В издании содержатся описания различных эпох конфессиональных взаимодействий при формировании «российского народа», включая период XIX – начала XX в. Теме «Россия и ислам» посвящен выпуск «Отечественных записок» (2003)4, в котором представлены статьи А. Малашенко, В. Зорина, С. Червонной и других авторов.
С.М. Исхаковым поднимается проблема участия мусульман в революционных событиях 1917–1918 гг. (2003). В его монографии сосредоточены сведения и о проявлениях общегражданского раскола по ходу противостояния (2004). Этничность в цивилизационном контексте получала отражение и в других конкретных исторических разработках. В 2007 г. была защищена докторская диссертация О.Н. Сенюткиной «Российский политический тюркизм: истоки и закономерности развития (1905–1916 гг.)»4, а в 2008 г. – А.К. Тихонова «Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти XVIII – начале XX в.»46 Издания производились и по отдельным составным частям мусульманской культуры. Исследования, в частности, по суфизму позволяют глубже понять конфессиональные особенности северокавказского ареала.
Изученность же различных подходов в преодолении неблагоприятной цивилизационной ситуации дает возможность осмыслить не только существовавшее в прошлом. Интерес для выявления специфики политики на окраинах отечественного Востока представляют и подборки сведений «Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – начало XX в.)». Использование их информационного контента позволяет комплексно воспринимать интеграционные аспекты проводившейся политики и те затруднения, с которыми сталкивались ее организаторы на практике. Составленное видным современным исламоведом Д.Ю. Араповым, издание сопровождено его же вступительной статьей в предисловии и пояснительными комментариями.
Уточнение понятий
В дополнение к историографическому обзору определим позицию по встречающейся формулировке «российский ислам». Применение ее, безусловно, неправомерно, так как любая монотеистическая религия, в том числе и христианство, имеет единую догматическую основу. Ислам также не предполагает этнических ответвлений. На это указывается в трудах богословов. Муфтий Гайнутдин Равиль, видный современный отечественный религиозный деятель, по этому поводу дает такое разъяснение: «Ислам, по определению священного Корана, основывается на неизменном вероучении… ниспосланном Аллахом. И с этой точки зрения нет и не может быть ислама российского, арабского, турецкого, индонезийского. Мусульмане России, так же как и их зарубежные единоверцы, живут на основе религии Аллаха, придерживаются положений, вытекающих из Священного Корана и Сунны».
Авторитетный богослов в связи с этим сделал и такое разъяснение: «мы вправе говорить, что есть и будут мусульмане России, Турции, Аравии, Индонезии… Они отличались и отличаются историческим… религиозным опытом». Резюмируя изложенное, муфтий обращает внимание, что «отечественного мусульманина» нельзя рассматривать «на одном уровне с единоверцами из стран дальнего зарубежья». Различия, заметим, весьма существенные. Трансформациям, связанным с этнополитическими интеграционными процессами, подвержено, таким образом, только мусульманство, означающее исповедование ислама теми или иными общностями людей.
Консолидирующую роль для восточного славянства, как известно, играло православие. Сложилась его русская вариация, но нет такой разновидности христианства из-за единой символики веры, общности религиозных представлений. В предпринимаемом исследовании используются формулировки, не затрагивающие канонический спектр отечественных и зарубежных конфессий. Для понимания специфики религиозной обстановки на северокавказской окраине Российской империи и характеризующих реальность терминов, наряду с исламом, учитываются также богословские версии христианства и буддизма. Изложенные уточнения должны, безусловно, применяться при исследовании исторических особенностей формирования российской идентичности мусульман на Северном Кавказе. Пояснения по иным понятиям отображаются в контексте систематизаций.
При вхождении в состав Российской империи различные иноэтнические сообщества нередко возлагали надежды не только на охрану интересов «прочным государственным порядком», но и на «религиозную свободу». Проводившаяся политика на ее окраинах в отношении иных конфессий отличалась от зарубежных практик. Делясь впечатлениями после поездок за границу, в ходе которых произошло в том числе знакомство с обустройством европейских стран и колоний, крымско-татарский просветитель И. Гаспринский отметил: «Русские мусульмане по законам нашего отечества пользуются равными правами с коренными русскими и даже в некоторых случаях, во уважение их общественного и религиозного быта, имеют кое-какие преимущества и льготы».
Мусульманство наряду с другими конфессиями имело равноправный статус и на Северном Кавказе, а исповедовавшее его население признавалось официально верноподданным3 или субъектом «единого отечества». В своде законов Российской империи содержалось специальное разъяснение: «все, присягая царю на верность подданства на кресте и Евангелии или по своей вере и закону, становятся русскими подданными, независимо от национальности и вероисповедания». Принцип религиозной свободы, таким образом, охранялся государством и предполагал неукоснительное соблюдение.
По российским законам запрещению подвергалось «порицание других церквей», тогда как представители католического духовенства и в XIX в. продолжали придерживаться принципа «чья власть, того и вера». В статье 62 главы 7 «О вере» свода законов Российской империи констатировалось: «Первенствующая и господствующая… вера есть Христианская Православная Кафолическая Восточного исповедания». Вместе с тем статья 67 дополняла данную правовую норму важным уточнением: «Свобода веры присвояется не токмо Христианам инославных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и Язычникам: да все народы, в России пребывающие, славят Бога Всемогущего разными языки по закону и вероисповеданию праотцев своих, благословляя царствование Российских Монархов и моля Творца вселенной о умножении благоденствия и укрепления силы Империи».
Некоторые исследователи полагают, что принцип веротерпимости в российской политике утвердился после указа Екатерины II 1773 г., передавшего общее заведование различными конфессиями светской, а не религиозной власти и оградившего тем самым «иноверные исповедания» от какого-либо влияния православной церкви. Однако наличие такого подхода в обустройстве государства прослеживается и на более ранних этапах. Когда в 1584 г., например, в Стамбул (Константинополь) был отправлен из Москвы посланник Благов для извещения султана о вступлении на престол царя Федора Ивановича, ему было поручено вместе с тем «убедить турецких пашей» в безосновательности «жалобы Оттоманской Порты на притеснения магометан в России» и разъяснить, что их вера «на русской территории нигде не притесняется». Прибывшие специальные эмиссары из этой страны убедились в полной правдивости представленной на этот счет информации9.
Объяснение отсутствию в России «озлобления против ислама» видели в существовавшем в империи Чингисхана цивилизационном компромиссе. Вследствие этого православное население «не испытывало никаких религиозных притеснений». Ограничившись политическим господством над Русью, монголы «ее церкви не только предоставляли полную свободу и независимость, но и оказывали особое покровительство». Такое отношение к другим исповеданиям во времена их евразийского владычества имело весьма широкое применение. Сосуществование государственной религии (конфуцианства) с другими конфессиями, среди которых достаточно многочисленной была исламская, установилось и в Китае, также являвшемся когда-то частью империи Чингисхана. Южные славяне в пределах Оттоманской Порты, как христиане, напротив, подвергались религиозным притеснениям.
Несмотря на это, они с пониманием относились к тому, что в России отношение к исламу основывалось на принципе веротерпимости. Выдерживался он и при установлении единства с Кавказом. Когда после одной из проигранных битв в годы русско-персидской войны (1826– 1828) предводитель персов Гассан-хан в бессильной злобе хотел предать огню знаменитый Эчмиадзинский монастырь, один из старейших беков бросил горький упрек ему: «Сардарь, русские два раза были в Эриванском ханстве, два раза терпели поражение, но, уходя назад, никогда не оскорбляли магометанской святыни». Принцип веротерпимости являлся определяющим также при формировании политики по ходу Кавказской войны. Уважительное отношение к исламу не менялось несмотря на то, что в отдельные ее периоды религиозное противостояние достигало крайнего предела и сопровождалось ростом фанатичности масс.
Вследствие этого этнодемографическая составляющая «священной войны» («газавата») против России в региональном масштабе обретала тенденцию к расширению. Профессор Тельавивского университета М. Гаммер политику России на Кавказе называет неоднократно «антиисламской», заявляя, что она «грозила кавказским народам потерей своей самобытности», предполагала отмену шариата и т.д., и не сопоставляет с этими заключениями имеющиеся в его распоряжении сведения, проясняющие подлинное отношение к мусульманской религии. Факты и оценочные суждения в его систематизации остаются в разных плоскостях, нередко противореча друг другу. В одном из обобщений, в частности, говорится: «Даже в ходе ожесточенных сражений мечети оберегались русскими войсками». И это действительно имеет подтвержденность.
Когда после одной из проигранных битв, например, в период русскоперсидской войны предводитель персов Гассан-хан в бессильной злобе хотел предать огню знаменитый Эчмиадзинский монастырь, один из старейших беков упрекнул его: «Сардарь, русские два раза были в Эриванском ханстве, два раза терпели поражение, но, уходя назад, никогда не оскорбляли магометанской святыни». Об отношении к исламу в период утверждения «русского владычества» на Кавказе сохранилось и такое упоминание: «Герменчук, самый большой чеченский аул, имевший три мечети, из которых лучшая была построена на деньги, пожалованные Ермоловым».
В мусульманском мире, находившемся в зависимости от европейских стран или Турции, в свое время также было известно, что «русские не доказывают своего религиозного превосходства». В восточных ареалах Российской империи, в частности, в Средней Азии, проповедь православия не допускалась и все попытки обращения в эту веру, предпринимавшиеся «туземным населением», в среде которого ислам недостаточно глубоко укоренился, отвергались. Наблюдавшие деятельность русской администрации в только что присоединенных районах Средней Азии во второй половине XIX в., замечая отличия от деятельности европейцев в зависимых странах Востока, констатировали: «Русские покушались строить мечети, поставлять мулл и проч.»21 Такая практика наблюдалась и на Северном Кавказе.
Подходы, направленные на укрепление вероучений, применялись и в отношении других религий. Поддерживалось все наиболее прогрессивное и связанное с традициями. При вхождении в состав России буряты, например, преимущественно были шаманистами, но покровительство, оказанное русской властью более культурным ламам, способствовало в значительной степени укреплению их учения у соплеменников. Представляемая ими религия получила более широкое распространение. Ее позиции существенно укрепились.
Противопоставляя в делах веры политику Шамиля, М. Гаммер заявляет, что тот «никогда не навязывал обращения в ислам». Затем он отображает реальность, опровергающую данное утверждение. Сообщается, к слову, об убежденности имама, что «обращать в истинную веру» необходимо 1WЅ_к'Ѓч_Дтолько «посредством силы». Оказывается на самом деле отношение Шамиля к иным религиям и их приверженцам «строго определялось канонами шариата», а «в Дагестане и Чечне» происходило все же его «насильственное введение». Более того известно, что для этих целей предпринимались усилия с его стороны искоренить все связанное с прошлым, в том числе даже эпические упоминания о старине, мифы, легенды, составлявшие уникальное духовное достояние каждого народа. Создавая объемный труд, М. Гаммер судя по всему особо не беспокоился о его соответствии критериям научности, не допускающим взаимоисключающие доказательства.
Поиск противовесов религиозному фанатизму подсказывал по ходу Кавказской войны формировавшим российскую политику в крае администраторам необходимость ставки на традиционализм и унаследованные от предшествующих этапов развития стереотипы функционирования «туземных обществ». Эта мера, как предполагалось, должна была создать некий барьер на использование ислама во враждебных для России целях, но она не была направлена против самой религии. При этом вырабатывались взвешенные и весьма осторожные подходы, так как цивилизационные приоритеты в ходе противостояния на Северном Кавказе имели огромное значение. Конфессиональные противоречия продолжали сказываться и впоследствии.
Повышенная же склонность к религиозному фанатизму во второй половине XIX в. отмечалась именно в районах, входивших когда-то в имамат Шамиля и служивших главным плацдармом войны, источником ресурсов, прежде всего людских, для ее ведения. В этом отношении особенно выделялся ряд чеченских обществ в нагорной полосе. Степень исламизации населения здесь оказалась более высокой, чем в равнинных ареалах. Кабардинцы, как и другие мусульманские народы, придерживавшиеся российской ориентации, к возбуждавшей фанатизм религиозной агитации были невосприимчивы. При закреплении северокавказской окраины в составе России существовала потребность учета этих особенностей. В проводившейся политике это так или иначе находило отображение.
Однако на ситуацию влияние оказывали и не зависевшие от нее обстоятельства. Вероятность религиозных столкновений обусловливалась не только идеологическими противоречиями двух конфессий, христианской и мусульманской, носившими в прошлом, до вхождения в состав России, непримиримый характер, но и доктринальными разногласиями в самом исламе. В среде мусульманского населения на Кавказе они появились вследствие влияний, исходивших из Ирана, где был распространен шиизм, и Османской империи, в пределах которой утвердился суннизм. В северных частях края получила преобладание последняя разновидность ислама. Данное соотношение, как показывал опыт зарубежных мусульманских стран, не уменьшало опасность силового разрешения споров между шиитами и суннитами, обвинявшими друг друга в приверженности «неистинному исламу», отклоняющемуся от первозданной канонической сути. Шииты были убеждены, что именно их версия веры соответствует «древним установлениям», берущим истоки якобы от самого пророка Мухаммеда. Сунниты, напротив, только себя признавали последователями «истинной религии» и обвиняли своих оппонентов в «нетерпимости и экстремизме». Шииты, в свою очередь, считали неприемлемой практику учета «единодушного мнения общины» при принятии тех или иных решений религиозного свойства и отдавали приоритет духовному вождю (имаму), доказывая, что его предназначение имеет божественное происхождение, чем объясняется, по их утверждениям, «непогрешимая мудрость» высшей религиозной власти.
Вследствие этих разногласий в исламе существовала потенциальная опасность регионального конфликта. При посещении Кавказа в 1858–1859 гг. французский писатель А. Дюма зафиксировал по рассказам сопровождавших его представителей русской администрации существовавшую в крае реальность, что из-за «религиозного различия» исповедующие шиизм и суннизм «ненавидят друг друга так же искренне и глубоко, как в XVI столетии католики и гугеноты». Несмотря на происходившие подвижки в идеологической сфере, как показывали различные события, этот антагонизм сохранялся.
В свою очередь у суннитов на Северном Кавказе сложилось разделение по принадлежности к направлениям ханифитского и шафиитского толков (мазхабов). Приверженность к первому установилась у абазин, адыгов, черкесов, кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, ногайцев, туркмен и части осетин, ко второму – у значительной части населения Дагестанской области (за исключением мест расселения азербайджанцев, лезгин, цахуров и части татов). Православие соответственно распространение имело в среде русских (восточных славян), а также у осетин, моздокских кабардинцев и др. В составе казачества сохранилась также прослойка старообрядцев. В пределах Северного Кавказа существовали вместе с тем общины сектантов, католиков, иудаистов и др.
Продвижение же в ареалы с мусульманским населением происходило при помощи самого ислама. Отсутствие в России «притеснений по религиозным мотивам» отмечают, делясь воспоминаниями своих предков, и потомки мухаджиров (этнических иммигрантов с Северного Кавказа второй половины XIX в.) в Турции. Напротив, по их заверениям, именно в этой стране переселенцы столкнулись с запретами на использование родного языка и культуры, не говоря уже о возможности их творческого развития. Обучение детей и отправление религиозных обрядов разрешалось только на официальном языке Османской империи. Для этой цели во все мечети, связанные с местами расселения выходцев с Кавказа, направлялись представители «турецкой национальности».
При проведении российской политики на окраинах с мусульманским населением осуществлялись иные подходы, в которых учитывалась этническая и религиозная специфика. В открывавшихся на Северном Кавказе в аулах казенных школах право на преподавание основ ислама предоставлялось представителям от самого населения, получавшим духовный сан, так же как и отправление обрядов в мечетях. Примечательно, что данный тип образовательных учреждений опирался на государственную поддержку и являлся соответственно объектом правительственного контроля.
Уважительное отношение выдерживалось в Российской империи и к мусульманской традиции, предписывавшей каждому верующему хотя бы раз в жизни совершить паломничество («хадж») в Мекку «для поклонения гробу пророка Магомета». Для желающих посетить в соответствии с религиозными установлениями мусульманские святыни препятствий не существовало. Паломникам в отдельных случаях выделялась от казны помощь, что указывает на наличие официальной поддержки явления «хаджа». Имелись в «Русском обществе пароходства» и специально оборудованные «паломнические» пароходы «для удобства господ хаджи».
На этих судах существовали «все необходимые помещения и приспособления соответственно их обычаям… устраивались места для молений» и три раза в день бесплатно отпускалась «горячая вода для чая», а заболевшим в пути оказывались также бесплатно врачебные услуги и отпускались лекарства. Разрешено было совершить паломничество вскоре после наступления мира на Кавказе и имаму Шамилю. Запрета на «хадж» не появилось в России даже с наступлением периода революционной нестабильности. Только в 1906–1907 гг. из Севастополя отошли четыре паломнических парохода в Геджас, откуда начинался один из сухопутных маршрутов к исламским святыням на территории Османской империи, и обратно.
Отправление таких пароходов происходило кроме того из Одессы и других южных портов. Не прерывался «хадж» и тогда, когда при помощи турецкой агентуры, «богомольцев, возвращавшихся из Мекки», предпринимались представлявшие опасность попытки активизировать во враждебных целях исламский фактор в пределах Российской империи. Они отслеживались Министерством внутренних дел, но запрет на паломничество мусульман в святые места так и не устанавливался.
В России поддерживался в проводимой политике во второй половине XIX – начале XX в. и курс на «исламское просвещение». После вхождения в ее состав тех или иных мусульманских народов поощрялось открытие у них новых средних и высших духовных школ (мектебе и медресе). В Туркестанском крае они существовали почти в каждом кишлаке. На Кавказе их насчитывалось до 2 тыс.41 По количеству открывшихся учебных заведений, где велось преподавание ислама, Россия тогда, пожалуй, не уступала зарубежным мусульманским странам. Эти учебные заведения в крае существенно преобладали над «министерскими школами», открывавшимися официально. Соотношение это стало меняться лишь с конца XIX в., но в прежней пропорции сохранилось до 1917 г.
На северокавказской окраине в тот период при мечетях действовало более 2 тыс. мектебе и медресе. Распределялись они как и молельные учреждения неравномерно: 45% приходилось на восточную часть и только , 1% – на западную. Мектебе являлись школами низшего типа, по законам Российской империи для их открытия не требовалось официального разрешения ни краевой, ни верховной власти. Оно зависело только от наличия учащихся и тех, кто изъявлял готовность вести преподавание. Поэтому мектебе имелись во многих аулах. Медресе же являлись учебными заведениями более высокого уровня и существовали лишь в наиболее крупных населенных пунктах. Утверждение о том, что «имперская администрация не поддерживала инициативы мусульман» в намерении создавать при мечетях школы4, не соответствует действительности.
Преподавание в мектебе и медресе зачастую вели посланцы из мусульманских стран зарубежного Востока, преимущественно из Турции, насаждавшие «чуждые понятия»4, что способствовало, безусловно, повышению предрасположенности к сепаратизму. На эти учебные заведения опиралась чаще всего и иностранная агентура, проникавшая на северокавказскую окраину для проведения агитации за отторжение ее от России. Отношение к ним среди мусульманского населения постепенно менялось, изза чего количество их постоянно сокращалось. Они функционировали вне правительственного надзора и финансовой государственной поддержки не получали. Церковно-приходские школы, напротив, субсидировались казной. Если же они находились в станицах, то на их содержание дополнительно отчислялись и денежные пособия из войскового капитала. Для развития грамотности среди казаков помимо церковно-приходских школ существовали и станичные училища.
Но запрета на открытие и образовательную деятельность мектебе и медресе не существовало. Исламское просвещение в России предназначалось не только для подданных мусульман. Богословская литература, в частности Коран, переводилась и на русский язык. Поощрялось строительство новых мечетей, количество которых до появления кризисной ситуации в империи также неуклонно возрастало. Так, в аулах Екатеринодарского и Майкопского отделов Кубанской области в 1894 г. их было 10, а к 1917 г., – насчитывалось уже более . В проводившейся политике на Кавказе, так же как и на других окраинах с мусульманским населением, эта линия выдерживалась весьма последовательно.
Строительство мечетей с минаретами не встречало препятствий даже в самых отдаленных местах Российской империи, где появлялись общины верующих. Производилось оно, например, ссыльными поселенцами на острове Сахалин. Для строительства мечетей здесь в соответствии с установившейся практикой по всей стране использовались собираемые средства и пожертвования. Но так возводились молельные учреждения и во всех остальных отечественных конфессиях. Исповедовавшие православие исключений не имели. Инициатива в возведении мечетей на острове Сахалин в ряде случаев принадлежала тем, кто ранее выполнял функции священнослужителей.
В г. Александровске, к слову, строительство осуществлял «на свой счет» мулла, выходец из Дагестанской области. В других населенных пунктах привлекались вместе с тем средства верующих. Из своей среды общины различных исповеданий выбирали и духовных наставников. Отбывавшие ссылку мусульмане имели возможность выдвигать по своему усмотрению мулл. Администрация в эти решения не вмешивалась. Различие с обычной общеимперской практикой заключалось лишь в том, что представители низшего мусульманского духовенства не получали официального статуса. Строительство мечетей, равно как и выборы низшей категории мусульманского духовенства, и на Северном Кавказе опирались на инициативы самого мусульманского населения.
Связанные с этим «приговоры горских обществ» при соблюдении норм не встречали препятствий. Подтверждением этому служит, в частности, намерение тулатовцев возвести мечеть в 1907 г. «в честь государя императора… в память благополучного избавления от покушения на его жизнь». Такие инициативы замечались и вызывали незамедлительный отклик монарха. На телеграмме, присланной по этому поводу начальником Терской области, он наложил резолюцию со словами искренней благодарности. Возводились мечети на мусульманских окраинах России и в честь 300-летнего юбилея «царствующего дома Романовых», широко отмечавшегося по всей империи в 1913 г.59
Укрепление же начал мусульманского вероучения во второй половине XIX – начале XX в. является показателем наметившегося «исламского ренессанса» на ее территории. Этого не смогли достигнуть за предшествующий период в мусульманских регионах России заинтересованные сопредельные страны. Вследствие проводившейся политики на восточных окраинах, в том числе и на Северном Кавказе, исламизация населения возрастала. Причем это происходило в среде даже тех народов, которые до вхождения в состав России были подвержены этому процессу весьма поверхностно. Показателями «исламского ренессанса» на территории Российской империи в тот промежуток времени являются открытие мечетей, функционирование религиозного обучения, сохранившееся каноническое общение с единоверцами за рубежом.
Укреплению мусульманства на окраинах отечественного Востока способствовало и наличие легитимности. Эти показатели «исламского ренессанса» типичны для любого периода. Укрепление начал вероучения предпринималось русскими властями прежде всего «для поднятия нравственности и гражданственности» на восточных окраинах. Двойственное цивилизационное тяготение, имевшее ярко выраженный восточный вектор, в начале XX в., как показывает предпринятый анализ, на Северном Кавказе сохранялось.
Проводившиеся на северокавказской окраине преобразования в духовной сфере укрепляли, как видно, авторитет самой религии в жизни иноэтнических сообществ, способствуя исламизации населения. Это происходило в среде даже тех народов, которые до вхождения в состав России были подвержены этому процессу поверхностно. Мусульманство вследствие этого укрепило свои позиции, обретало конструктивный для формирования целостности российской государственности потенциал. Оно перестало играть враждебную роль, превратившись и на северокавказской окраине в элемент общероссийской консолидации.
При формировании общегражданского единства преобладающее значение в российской политике отводилось вместе с тем официальной религии. Поэтому на Северном Кавказе, как и в иных специфических частях пространства империи, существовали конфессиональные ограничения, не препятствовавшие свободе исповедания ислама, но дававшие некоторые преимущества православию. И то они касались лишь несанкционированных процессий, попыток распространения мусульманского вероучения в среде приверженцев других исповеданий. Православным, как и всем христианам, был запрещен отход от своей церкви и переход в иноверные конфессии, в том числе обращение к исламу. Ограничения сводились к недопущению проповеди этой религии в среде представителей других конфессий, и прежде всего христиан, что в условиях не достигнутого цивилизационного совмещения было вполне оправданно.
Проявлений дискриминации здесь не существовало, и принцип свободы вероисповедания в этом весьма сложном ареале России не исключался из складывавшейся системы государственных отношений. Запрет был установлен и на распространение вероучения раскольников (старообрядцев) для предотвращения дальнейшего разобщения идеологического поля православия. В этой связи регламентация деятельности производилась и для духоборов. Восприятие их предопределялось отношением к сектантам. Однако все охранительные меры в идеологической сфере, за исключением отселений на окраины империи, не подкреплялись, как правило, силовым давлением, принуждающим к отречению, и не затрагивали исповедных особенностей противоречащих официальной церкви разновидностей христианства. Ненужность ряда запретительных мер осознавалась и теми, кто был непосредственно причастен к формированию российской политики на окраинах.
Внимание на это обращалось еще с начала XVIII в. На самом высоком уровне уже тогда, в частности, признавалось неоднократно пограничное положение на Тереке гребенских казаков, сохранявших верность старообрядчеству, их «без измены», несмотря на религиозную оппозиционность, служение отечеству и государю на Северном Кавказе. Учитывалась также и расположенность их поселений в мусульманском окружении, существенно преобладавшем в восточных частях окраины. Гребенские казаки не выступали против официального православия, соблюдали все законы империи и государственные установления. При возникновении рецидивов притеснений в делах веры со стороны Кавказской епархии они получали поддержку наместника и даже Синода. Однако конфессиональное принуждение по отношению к гребенским казакам в действительности в ряде случаев допускалось и приводило к нежелательным для России последствиям, ослаблявшим ее позиции на южном порубежье, где они играли роль сдерживающей силы.
Часть из них, оставляя обжитые места, уходила к Шамилю, получая покровительство имама в делах веры. Россия же из-за просчетов в политике несла демографические потери. За счет этого ослаблялись ее геополитические и цивилизационные позиции в крае. К середине XIX в. в составе Кавказского линейного казачьего войска старообрядцы составляли всего 16%. Состояние раскола в православии тем не менее на принципе сосуществования было преодолимо, что прояснило последующее развитие. Поскольку процесс смены кодов цивилизационного развития связанный с исламизацией «туземных обществ» не завершился на Северном Кавказе и во второй половине XIX в., наделенные соответствующими полномочиями верховной властью представители чиновничества в крае, ответственные за проводимую политику, до прояснения реальности полагали, что Россия должна оказывать свое влияние на его исход.
Этим объясняется признававшаяся предпочтительность христианизации горцев, но эта идея поддерживалась лишь непродолжительное время. В дальнейшем влияние на северокавказские этнические общности, принявшие ислам, стало осуществляться через само вероучение. Мусульманство постепенно превращалось в неотъемлемую составляющую формировавшегося в пределах империи евразийского цивилизационного синтеза. Тем самым задействовался внутренний конфессиональный потенциал, что в действительности оказывало более эффективное воздействие на обстановку. Смена же вероисповедных идеологических парадигм, напротив, наталкивалась на препятствия и нередко сопровождалась осложнениями. Ставка на нее обуславливалась учетом распространенности христианства в ряде «туземных обществ» на предшествующих этапах.
Не являлись исключением даже нагорные районы Северного Кавказа и Дагестана, что подтверждается существованием здесь в прошлом епархий. Столкнувшись с устойчивостью процесса исламизации, русские власти отказались от нетипичного для других восточных окраин подхода. Мусульманство на Северном Кавказе, укрепляло свои позиции. Изложенное выше указывает и на то, что представители краевой администрации на протяжении длительного времени вели поиск оптимального варианта идеологии и использовали этот фактор для укрепления государственного полиэтнического единства.
На признании предпочтительности христианизации местных народов «в видах их теснейшего соединения с Россией» правительственная политика в религиозном вопросе строилась лишь на начальных стадиях интеграции. Идее «крещения иноверцев» была привержена тогда и русская православная церковь. Для этой цели на северокавказской окраине при некоторых ее епархиях действовали специальные «противомусульманские» и «противобуддийские» секции. Их предназначение сводилось в том числе к ограждению православного населения края от влияния иноверных религий. В этом можно усмотреть элемент этноконфессиональной защиты. Вместе с тем в своеобразной форме при помощи таких мер достигались и цели укрепления государства. Ослабление позиций других религий, тем более их вытеснение, запрещалось имперским законодательством. Их канонические устои также, как и православия, оберегались от сектантства. По указу, изданному в 1833 г. за подписью самого императора Николая I, «мусульмане России должны выполнять все требования своей религии, строго соблюдать ее догматы» . За «вероотступничество» предусматривались даже телесные наказания.
Для совмещения цивилизационных различий задействовались и православные образовательные учреждения. Еще в 1846 г. при поддержке наместника М.С. Воронцова в Ставрополе была открыта духовная школа, получившая наименование Кавказской семинарии. В изданном по этому поводу указе Синода устанавливалось ее подчинение «Казанской Духовной Академии»7, обладавшей опытом просветительской деятельности на восточных окраинах Российской империи. Помимо обязательных дисциплин в учебную программу семинарии было включено изучение языков «туземных народов» Северного Кавказа. Принимаются для обучения «дети из осетин, черкесов, грузин, калмыков». Наряду с этим проводилась подготовка и «богословски образованных» православных священников, знакомых с местными обычаями.
Преодолению цивилизационного разлома для сближения населения империи служило также «Общество восстановления православного христианства на Кавказе», учрежденное в 1860 г. Его координирующий центр размещался в Тифлисе, откуда осуществлялось все управление краем, а на местах – филиалы. В регламентирующих деятельность этого общества документах четко было обозначено намерение «восстановить православное христианство в кавказских племенах», но отнюдь не утверждение его при помощи принуждения. Вместе с тем разъяснялось, что «восстановление между горцами христианства необходимо в видах собственной их семейной и общинной пользы и государственного дела: теснейшего соединения их с Россиею».
Деятельность общества нельзя отрывать от эпохального контекста. Приниматься во внимание должна и активность в тех условиях мусульманского духовенства (мулл и эффендиев), точнее его наиболее радикальных прослоек, по распространению ислама, которое проходило не без трудностей и в ряде случаев с применением насилия. В разрабатывавшихся проектах по восстановлению православия предлагалось «ускорить высылку за границу фанатиков» и другие меры для противодействия их усилиям. В конце XIX в. в Ставрополе учреждается епархиальный комитет «Православного миссионерского общества». На него возлагалось руководство соответствующей деятельностью среди буддистов и мусульман.
Для подготовки проповедников в Ставропольской Духовной семинарии открываются краткосрочные курсы. Миссионеры в пределах края проводили работу и с сектантами. В некоторых случаях им удавалось добиваться обращения в православие. Крещение принимали, например, отдельные представители калмыков-буддистов. Несмотря на прилагавшиеся усилия, «Общество восстановления православного христианства на Кавказе», просуществовав до 1917 г.8, тем не менее так и не смогло по большому счету вернуть прежние весьма широкие параметры исповедания этой религии в среде горских народов.
Среди представителей иноверных конфессий, так же как и в отношении различных русских сектантов и раскольников, православная церковь действовала посредством благовестнических миссий. Осуществление этой деятельности координировалось советом в Москве и его комитетами при епархиях. Организация миссий была приспособлена к местным условиям с учетом их особенностей. Они имели в соответствии с этим и свои характерные названия: астраханская, киргизская, алтайская, чукотская, камчатская и т.д.83 Но в России миссионеры, как в католической церкви, проводившие работу по обращению в христианство со ставкой в ряде случаев на принуждение отсутствовали.
Сопоставляя политику в колониях европейских метрополий и на среднеазиатской российской периферии, французский путешественник Ге де Лакост в начале ХХ в. выделил именно это отличие. В своих записях он оставил на этот счет пометку: «У русских миссионеров нет; они к этому приему не прибегают. Они хотят приобрести доверие покоренных народов, не противоречить им ни в их верованиях, ни в их обычаях». Однако данное наблюдение, следует заметить, основывалось на реалиях Туркестанского края. На Кавказе, где распространенность христианства когда-то имела более широкие пределы, а процессы исламизации носили поверхностный характер, подходы были иные.
При помощи благовестнических миссий осуществляло свою деятельность в крае, в частности, «Общество восстановления православного христианства». Но дискриминация других религий, в том числе и ислама, не допускалась. Об отсутствии ее в России было известно в странах зарубежного Востока. Сообщения об этом воспринимались там с огромными симпатиями. Такая практика прослеживалась и в Византийской империи, где проповедь православия также не возводилась в ранг государственной инициативы и проводилась только монахами. На российских окраинах церкви и монастыри создавались лишь для исповедовавших православие.
Христианизация иноверного населения не являлась определяющей мерой в комплексе различных преобразований в идеологической сфере на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX в. Тем более она не имела антиисламской направленности. Никакой угрозы самобытности иноэтнических сообществ края в связи с попытками восстановления позиций христианства не существовало. Обращение в православие носило весьма ограниченный характер, а связанное с ним обещание «наипаче… изливается монаршая щедрота и милость на приемлющих добровольно веру христианскую»91 не основывалось на давлении. К ингушам, например, предпринимались лишь призывы «мухамедданского закона» не принимать и «мечетей не строить».
При оценке данной инициативы не следует, на мой взгляд, игнорировать также то обстоятельство, что христианизация «туземного населения» имела когда-то более широкое распространение и после окончания Кавказской войны, видимо, все еще возлагали надежды на вероятность хотя бы частичного возвращения утраченных позиций. Восстановление православного исповедания у значительной части осетин указывает на небезосновательность предпринимавшихся усилий. Во всяком случае, данная историческая реальность в условиях незавершившегося процесса исламизации учитывалась теми, кто так или иначе был причастен к формированию российской политики на Кавказе, о чем в какой-то мере свидетельствует, в частности, сочинение офицера Генерального штаба полковника Ракитина, составленное в 1862 г.94
Необходимость же перехода в православие на этой окраине империи устанавливалась преимущественно при вступлении в казачество. Претенденты из «инородцев» без каких-либо ограничений получали привилегии войскового сословия, но должны были отказаться от исповедания ислама. О том, какое распространение имело в таком случае принятие православия, свидетельствует то, что к концу XIX в. иноэтническая прослойка в казачьей среде не превышала всего 2%9, а впоследствии с 1905 г. от этой практики из-за нехватки земли для паевых наделов отказались вовсе. Допускалась она лишь в северных ареалах Кавказа, относившимся к зоне цивилизационного разлома, где фактор религиозности населения играл более высокую роль, чем в других местностях России.
Даже в Области Войска Донского, выполнявшей когда-то в течение длительного времени функции такого же периферийного контактного ареала, вступавшие в казачество калмыки оставались буддистами и не испытывали каких-либо конфессиональных притеснений. Им предоставлялась свобода и в исполнении обрядовых традиций при несении воинской службы. В среде же этой иноконфессиональной группы распространенными были, в частности, такие признания: «я калмык, идущий за Буддой», горжусь «своим братством с казаками». Однако и в Донской епархии, как и в Ставропольской, приходские священники занимались обращением калмыковбуддистов в православие. Проводилось оно также на сугубо добровольных основаниях. Выбор стимулировался льготами и поощрениями, а иногда и освобождением от повинностей. На «крещение» возлагались надежды, что оно наряду с другими мерами будет способствовать сближению «калмыцких кочевий с казачьими станицами». Но случаи принятия православия буддистами и в Донской епархии оказывались единичными.
В Сибирском казачьем войске были представлены и мусульмане. Здесь при поступлении в сословие в жесткой форме не выдвигалась необходимость изменения веры. В казачьих же селениях этого войска на общих основаниях возводились христианские храмы и мечети. В этих различиях отражалась прежде всего специфика окраин. В качестве подтверждения может служить и тот факт, что в сопредельном с территорией Сибирского казачьего войска Туркестанском крае, полностью включенном в состав Российской империи во второй половине XIX в., вопрос о христианизации «туземного населения» никогда не ставился, не имела такой направленности и проводившаяся политика. Региональные разновидности российского казачества имели судя по всему автономную особость и в делах религии. Они впитывали цивилизационные несхожести мест формирования, трансформируя их в свою этнокультурную самобытность. Сосуществование православного и исламского вероисповеданий в казачьей среде на ранних стадиях формирования общности имело весьма широкое распространение. Сохранялось оно в ряде случаев и впоследствии.
Православная церковь в свою очередь также поддерживала в империи настрой на веротерпимость. Ее священники, занимаясь проповедями в возникших во второй половине XIX в. вследствие русской колонизации восточных окраин поселениях, настоятельно призывали прихожан «жить в мире со своими соседями инородцами и иноверцами». В среде православного духовенства встречались и те, кто придерживался на этот счет реакционных взглядов. В начале XX в. в России, к слову, с осуждением были восприняты нападки при отправлении богослужений на «евреев и интеллигентов» иерархов Гермогена и Илиодора. Они не раз подвергались критике со стороны Синода и получали предупреждения. Поскольку это не подействовало, в 1912 г. в отношении Гермогена и Илиодора последовали репрессии: первый был «уволен на покой», а второй – заточен в монастырь Владимирской епархии.
Подавляющее же большинство православного духовенства придерживалось сложившегося еще в прошлом убеждения в возможности и необходимости сосуществования в России различных религий. И это были, заметим, не единичные эпизоды, а последовательная линия не подверженная конъюнктурным колебаниям даже в самые кризисные периоды в развитии государства, которая проводилась в воздействии на верующих в соответствии с государственной политикой. Выдерживалась эта направленность и в обстановке нараставшей революционной нестабильности в начале XX в. Укрепление начал веротерпимости не только оставалось неизменным, но и со временем повышало свои интеграционные возможности. На это обращалось внимание и в правящих кругах. П.А. Столыпин, занимая пост министра внутренних дел, считал, что «религия должна быть охраняема как ценный интерес всего государственного единения». Изменения в конфессиональной политике в какой-то мере отражало то, что уже существовало в России, но вместе с тем возводило реальность в ранг государственной идеологии, объединяющей этнически разнородное население. Другие вероисповедания наравне с православием признаются «высшим государственным интересом России».
В 1904–1905 гг. вышли высочайшие указы и о пересмотре законоположений, касающихся религиозного быта мусульман. Поворот в этом направлении только намечался, и его необходимо рассматривать в контексте поиска обновленной объединительной для империи идеологической основы, способной совместить в солидарное сообщество подданных различных конфессий. Обновление прежних стратегических приоритетов развития, безусловно, отвечало требованиям наступившей кризисной для страны эпохи, так как формула «Православие, Самодержавие, Народность» после территориального продвижения на Восток во второй половине XIX в. с включением обширных мусульманских регионов уже устарела. Реальность нуждалась в том, чтобы ее видели такой, как она есть. Использование предшествующего опыта, когда православие действительно способно было играть доминирующую роль, ей уже не соответствовало.
Наметившийся в начале XX в. поворот в идеологической сфере, на мой взгляд, был неглубоким и его стабилизирующие возможности нельзя переоценивать. Хотя в целом такого рода реформа была необходима. В проводившейся в отношении некоторых конфессий политике допускались и ошибки. Они выразились, в частности, в попытках пересмотреть положение 1836 г., регламентировавшего деятельность в Российской империи «Армянской Апостольской Церкви». Происходившие в этой связи протесты на Кавказе тем не менее были приняты во внимание и с 1905 г. ее компетенции в прежнем объеме были восстановлены. Ограничения применялись и к сектантам.
В условиях Первой мировой войны они коснулись в том числе «вероисповедных прав» католиков и лютеран, к которым относились бывшие австрийские и германские подданные. За отдельными их представителями устанавливается административный контроль, распространявшийся и на некоторые другие религиозные организации. Ограничения на предшествующем этапе, особенно с 1905 г., для католиков и лютеран, равно как и других религиозных общин, не применялись. По свидетельству П.Г. Курлова, имевшего разносторонний административный опыт, запретительные меры, в тех случаях, когда они использовались, «не всегда опирались на существовавшие законы, многое зависело от лиц, стоявших во главе центрального управления Министерства внутренних дел и местных губернаторов».
В начале ХХ в. на Северном Кавказе насчитывалось более 2 тыс. мечетей, а мусульманское духовенство в составе населения достигало 2%, тогда как все духовенство – около 3%. Кавказская епархия русской православной церкви имела здесь всего 425 приходов. Наибольшее их количество было сосредоточено в западных и центральных частях окраины, соответственно 235 и 113 храмовых комплексов. А в сопредельной области, расположенной восточнее, с численно преобладавшим мусульманским населением, их насчитывалось . Христианские молитвенные учреждения разных типов составляли на Северном Кавказе примерно 20% от общего количества мусульманских мечетей, последних же было в пять раз больше. Данное соотношение показывает и то, что у иноэтнической части населения идеологическое поле было несравненно более сильным, чем у восточнославянской. А ведь именно русский демографический ресурс на относившейся к зонам цивилизационных разломов периферии выступал своего рода скрепляющим государственным началом.
Вместе с тем православие, несмотря на огромное историческое значение в интеграционном процессе, после включения в состав Российской империи обширных азиатских пространств с иным конфессиональным контентом, скрепляющим для них идеологическим стержнем служить не могло. Такую роль оно выполняло лишь на начальных стадиях формирования государства. Объединительную функцию впоследствии для поддержания его общегражданского единства играли также российское мусульманство, буддизм и другие религии. Проводившаяся в имперский период политика способствовала укреплению их позиций. Наряду с православием иноверные конфессии становились составными частями феномена отечественного евразийства.
Мусульманских мечетей на северокавказской окраине, как уже отмечалось, было в пять раз больше, чем христианских молитвенных учреждений всех типов. При данном сопоставлении учитывались не только православные храмы, но и монастырские комплексы, часовни, и т.д. Мечети же обеспечивали религиозные потребности всего 1, 5% населения. По мусульманской традиции, не нарушавшейся и в России, они являлись владельцами вакуфных земель, размеры которых существенно различались и нередко соответствовали экономическим показателям крупных феодальных имений. Ответственность за ежедневное исполнение молитвенных обязанностей в мечетях возлагалась на мулл, подчинявшихся по сложившейся субординации эффендиям, должностным лицам, заведовавшим религиозными делами аульных (сельских) обществ. Сфера их компетенции распространялась на все входившие в эти общества конфессиональные субъекты3. Еще в 1836 г. в предписаниях занимавшимся организацией управления на Кавказе представителям русской власти, среди которых в то время было немало военных, Бенкендорф, возглавлявший жандармский корпус империи, отметил: «класс эффендиев есть именно то, от привлечения которого может произойти польза, если не большая, то и не меньшая, чем приобретаемая силой оружия». Рекомендация, нужно сказать, основывалась на осведомленности о местной специфике. По степени влияния на верующих эффендии имели фактически равные возможности с муллами. Кадии специализировались в знании мусульманского права (шариата) и выполняли функции судей.
Мусульманское духовенство в сельских (аульных) обществах на Северном Кавказе, подвергшихся процессу исламизации, неизменно занимало весьма влиятельные позиции. По социальным признакам оно было неоднородно. Высшие его прослойки состояли из крупных собственников, низшие – из мулл и кадиев крестьянского происхождения, в среде которых в свою очередь встречались зажиточные и беднейшие слои. В последнем случае по своему положению мусульманское духовенство не отличалось от остальной массы трудового народа, имея с ним одинаковые по сути стратификационные позиции.
В сельских обществах на мулл и кадиев часто возлагались административные обязанности, а там, где отсутствовали аульные правления, они вели и служебную переписку. Исполнявшее властные функции низшее духовенство подчинялось старшинам. В силу своего положения оно оказывало наибольшее влияние на религиозный быт и политические настроения мусульман северокавказской окраины, занимаясь не только организацией молитв в мечетях, но и ведая практически всеми сферами культурной и правовой жизни. С этим считались и представители русской власти. В 1881 г. в одном из донесений в правительственные инстанции сообщалось: «Вопрос о мусульманском духовенстве, в руках которого находится не только умственное и нравственное развитие народа», а также непосредственное соприкосновение с его гражданской жизнью, «имеет серьезное значение». Наряду с этим отмечалось и то, что «действия мулл и кадиев» разрознены из-за отсутствия духовного управления на Северном Кавказе, вследствие чего они, как и прежде, признавали «над собою главенство шаха, находящегося при гробе Магомеда, который и передает им свои приказания».
По содержанию эти распоряжения, касавшиеся «постов и молений», не представляли угрозы для целостности Российской империи, но такая зависимость мулл края от фанатичного духовенства Турции и находившейся тогда в ее составе Аравии могла, как не без основания полагали представители администрации, в любой момент обрести и иной характер. Именно поэтому неоднократно обращалось внимание на необходимость ее ослабления при помощи учреждения должности муфтия, высшего духовного лица, в частности в Кубанской области. Данная необходимость существовала и в других административных образованиях северокавказской окраины.
На должность муфтия предусматривалось выдвигать личность, обладающую нравственным авторитетом, развитую и надежную, наделенную соответствующими духовными и управленческими полномочиями. Высокая представительность ее служебного статуса в чиновничьей иерархии должна была поставить, на что возлагались надежды, в какой-то мере преграду в сношениях малограмотных мулл с духовенством Мекки и Стамбула. Предусматривалось для достижения этой цели и создание школ для их подготовки на территории России с привлечением к работе в них хороших учителей арабского языка.
Существовавшие в ее пределах учебные заведения, где производилось изучение ислама, несмотря на многочисленность, предъявляемым требованиям зачастую не соответствовали, и их деятельность шла в разрез с намечавшимися задачами общегражданской интеграции. Находясь вне правительственного влияния, они не подпадали под официальные распоряжения и имели кроме того в штатах преподавателей зарубежного, чаще всего турецкого, происхождения. Последние на восточные российские окраины, в том числе и на Северный Кавказ, засылались, как правило, под прикрытием идеалами веры специально для проведения возбуждающей религиозный фанатизм пропаганды. Это создавало угрозу и самому населению. Именно такая агитация не в последнюю очередь способствовала массовому выселению горцев в Турцию.
Поднятие уровня образованности наиболее массовой, низшей категории мусульманского духовенства, введение единства его действий и установление контроля над ним1, вызывалось настоятельной потребностью преодоления состояния цивилизационного тяготения к зарубежному исламскому Востоку. Оттуда неоднократно и в прошлом при любых обострениях обстановки на Кавказе исходили под прикрытием единства веры враждебные для России влияния, что, безусловно, нельзя было игнорировать. Для противодействия им использовались возможности клятвенных обещаний, принимавшихся в полном соответствии с предписаниями мусульманской религии. Такая практика получила на Северном Кавказе широкое распространение.
В содержание в соответствии с канонической традицией закладывался, в частности, такой сакральный смысл: «клянусь всемогущим Богом и великим его Пророком Мухаммедом… в возлагаемых обязанностях… быть ревностным к службе его императорского величества и попечительным о пользе общественной… В заключение же сей моей клятвы целую слова святого Корана». Обещания скреплялись подписью вступавшего в должность муллы и присутствующих, в них проставлялся год, месяц и день присяги. На мулл русской властью возлагалась обязанность «быть передовыми в своем народе, понимать современные требования» и вести за собою людей.
Через специализированную систему учебных заведений русские власти стремились поднять уровень исламской образованности духовенства, и в первую очередь его низшего, наиболее массового звена (мулл), чтобы оно «своим пастырским словом влияло на среду в той степени нравственности, как установлено религиею и законностью». Для занятия должности приходского муллы претенденты подвергались «испытанию в знании мусульманского вероучения». На Северо-Западном Кавказе, например, с 1892 г. действовал специальный циркуляр начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска. В соответствии с ним на испытание требовались предварительные разрешения атаманов отделов. Далее они проводились исключительно с учетом предписаний исламской традиции.
Представители русской власти на должности мулл старались по мере возможности утверждать лишь тех, кто прошел проверку на знание основ вероучения. Однако на этом направлении ситуацию до конца все же изменить не удалось. Проверки «всех мулл в знании учения магометанской веры» проводились на Северном Кавказе периодически и после занятия должностей. Но это не дает основания для утверждения, что «мусульманское духовенство… полностью зависело от администрации». Во всех случаях, когда испытания практиковались в управленческих структурах, как показывает не только отечественный, но и мировой опыт, они только повышали уровень культуры и компетентности тех, кто в них входил.
А в Российской империи, в том числе и на ее северокавказской окраине, мусульманское духовенство прежде всего низшего звена являлось частью административного аппарата и рассматривалось в качестве важнейшей опоры функционирования государственной системы. Содержание мулл как в шиитских, так и суннитских мечетях являлось обязательным для прихода, а его размер определялся специальным сходом верующих. Претенденты на должности кадиев горских судов также выбирались. При этом кандидатуры предлагались непосредственно сельскими обществами. Утверждение кадиев происходило лишь после этого, и связанные с их вступлением в должности административные решения принимались, как видно, в интересах самого населения. При утверждении кадиев, равно как и мулл, обращалось внимание «на образованность, знание русского языка и благонадежность»3, что являлось весьма важным для эффективности исполнения возлагавшихся на них административных обязанностей. В ряде случаев попытки организации мусульманского духовенства, предпринимавшиеся представителями русской власти, воспринимались местным населением как стеснения в делах веры. В подававшихся в вышестоящие инстанции прошениях выражалась обеспокоенность, в частности, тем, что «богомоления в мечетях совершаются только утвержденными начальством муллами, тогда как по Корану моления могут совершать все, знающие Коран, и в любом месте, где застает мусульманина время намаза». По мнению горцев, они также были лишены «права свободы выборов кадиев и сельских мулл, так как начальство утверждает не тех, кого избирает общество, а кого само желает».
Начальник Кубанской области и наказной атаман Кубанского казачьего войска, столкнувшись в 1901 г. с такого рода обеспокоенностью некоторых аульных обществ, обязал представителей своей администрации дать следующие разъяснения: «введение правильной организации… духовенства имеет исключительной целью оградить население от невежественного вмешательства в их духовную жизнь лиц, выдающих себя за сведущих в знании Корана. Стеснять же кого-либо в богомалении в виду не имелось, и поэтому ежедневное пятикратное моление, без произношения проповедей, они могут совершать как им угодно по правилам своей религии».
В рекомендации содержалось и весьма важное для преодоления недоверия уточнение о том, что «кадии и муллы утверждаются из числа лиц, избираемых обществами за исключением очень редких случаев, когда избранные кандидаты оказываются лицами неблагонадежными». В заключительном пояснении констатировалось: «Таким образом, указания на эти стеснения не могут составить какого-либо повода к недовольству администрацией, тем более, что избрание кадиев по шариатским правилам предоставляется власти начальства, а не обществам, но из уважения к голосу горских обществ право это оставлено мною за сими последними».
В данном ответе прослеживается неплохое знание основ ислама представителями русской власти, занимавшимся управлением Кавказом. Причем это относится не только к начальникам северокавказских областей, являвшимся вместе с тем наказными атаманами казачьих войск, и генералгубернаторам. Такими познаниями нередко обладали руководители других уровней краевых административных структур. Несмотря на предпринимавшиеся усилия, после завершения Кавказской войны и в последующие периоды деятельность низшего духовенства так и не была поставлена под эффективный контроль государственных структур и мусульманских центров (муфтиатов) империи.
Их существовало несколько. В Крыму такое духовное управление было создано еще в 1831 г. Затем в 1872 г. в Закавказье, в 1878 г. – в Оренбурге и Уфе открываются «Духовные собрания по заведованию лицами магометанской веры». Возглавлявшие их муфтии назначались и оплачивались Министерством внутренних дел, где существовал специализированный по делам восточных религий департамент. На ряде азиатских окраин, только вошедших в состав империи, духовные управления отсутствовали и заведование религиозными нуждами мусульман входило в компетенцию генерал-губернаторов. Такое положение сложилось и на Северном Кавказе.
Только здесь из-за административных особенностей Кубанской и Терской казачьих областей установилась подчиненность начальникам и существовавшим при них правлениям. Создание соответствующего религиозного управления в крае тормозилось рядом обстоятельств, и хотя в нем, как подсказывал опыт, существовала настоятельная необходимость, решение данной проблемы постоянно откладывалось.
Между тем даже в ходатайствах самого населения нередко отмечалось, что организацией молений и проповедями занимаются священнослужители, не знающие основ ислама, имеющие сомнительную репутацию и «распространяющие вредные учения». В одной из типичных жалоб по этому поводу от мусульманского населения, поступившей в вышестоящие инстанции 9 октября 1913 г., сообщалось: «Старший эффендий Н.Х. Напугов вел пропаганду в народе против воинской повинности». В обращении упоминалось и о том, что этот священнослужитель в своих проповедях призывает «к сохранению в душе тайной вражды к русским» и возбуждает народ «против всего русского».
Необходимость принятия решительных мер подкреплялась также ссылкой на отсутствие у него соответствующих духовных познаний для звания эффендия. Озабоченность населения по поручению атамана Баталпашинского отдела была перепроверена участковым начальником, и в его ответном рапорте «факт возбуждения… мусульманского населения против русских и вообще… всего существующего строя» получил подтверждение. К поступавшей информации критического свойства, связанной с деятельностью мусульманского духовенства, в проводившейся политике в Российской империи, как видно, отношение было предельно осторожное.
При Терском областном правлении в 1913 г. в связи с поступавшими тревожными сведениями, в том числе от горского населения, была создана специальная комиссия. Ей было вменено в обязанность заниматься выяснением того, где именно получено духовное образование эффендиями и муллами, какое у них подданство, и т.д. Устанавливалась также склонность к исламскому радикализму, причастность к религиозным движениям, «племенной агитации», проверялась и политическая благонадежность. Нерешенность проблемы исламской образованности на Кавказе признавал и наместник. Подводя итог управления краем за восемь лет, в отчете, направленном в Петербург в 1913 г., он сообщал, что организацией молений занимаются зачастую «малообразованные, даже с точки зрения сельского мусульманского населения, выходцы из Персии и Турции», преподносящие верующим «нерусские понятия».
Именно они нередко произносили и проповеди соответствующего содержания, направленные на формирование сепаратистских настроений. И.И. Воронцов-Дашков указал на ошибочность существовавшего мнения о том, что «не дело государства заботиться об обеспечении религиозных нужд населения, исповедующего не господствующую религию»4, приводившего в ряде случаев на окраинах с мусульманским населением к игнорированию потребности добиться повышения уровня образованности мулл. Подготовку их через систему российских специальных учебных заведений наместник на Кавказе «выдвинул на первую очередь», подчеркнув особо настоятельность и своевременность его разрешения «в положительном смысле».
Длительное время правительственная политика была направлена, главным образом, на сокращение влиятельности в управлении именно низшей категории духовенства. Еще во второй половине ХIХ в. администрация, например в Кубанской и Терской областях, делала попытки поставить под контроль деятельность мулл, особенно назначение на должности. В качестве главного критерия при этом рассматривалась непринадлежность «к вредным обществам и учениям». Этот контроль возлагался на высшее духовенство и полицейское начальство. Но при отсутствии на Северном Кавказе централизованного управления для мусульман его возможности оказались недостаточно эффективными. Хотя требования о создании высшего религиозного центра (муфтиата) выдвигались неоднократно, он так и не был образован. Существовавшие для этого препятствия, связанные в том числе со сложностями в преодолении конфессиональной разобщенности, оказались существенными. Устранение их требовало обретения соответствующих знаний и административного опыта.
Официально заведование религиозными делами мусульман северокавказской окраины возлагалось на Оренбургское духовное правление. Однако подчинение это было скорее формальным, так как последнее совершенно игнорировало поступавшие из края дела и нередко отказывалось принимать их даже к разбору. Закавказское духовное правление по закону тоже не имело права вмешиваться в дела мусульман Кубанской и Терской областей. В действительности их религиозное самоуправление также находилось под внешним надзором местных властей5, а в централизованном порядке подчинялось кроме того еще и Военному министерству, где, как и в Министерстве внутренних дел, существовали специализированные подразделения (Азиатская часть и др.)53 Очевидно, что переходное состояние в заведовании духовными делами мусульман на Северном Кавказе окончательно так и не было преодолено. Только в Ставропольской и Черноморской губерниях вопросами вероисповеданий занималась гражданская администрация.
Сложившиеся разновидности организации религиозного быта населения, исповедующего ислам, не имели принципиальных различий и были нацелены, как и другие звенья управленческого аппарата, на поддержание стабильности в регионе и гражданское приобщение. Замечается русскими администраторами и возможность более широкой опоры на мусульманское духовенство в связи со все более усиливавшейся в его среде пророссийской ориентации. Влияние на это не в последнюю очередь оказывала происходившая интеграция, в которую включались все иноэтнические сообщества в пределах края, как и других восточных периферийных пространств империи. В начале XX в. управленческий корпус на Северном Кавказе стал пополняться в соответствии c наметившимся поворотом в подходах и из высших прослоек мусульманского духовенства. Как показывала складывавшаяся под влиянием российской политики ситуация, данное изменение не являлось ошибочным и полностью оправдывалось.
Так же как и муллы, высшее мусульманское духовенство противостояло попыткам «возбуждения народа против правительства и существующих порядков». Обладая более высокой образованностью, оно следило не только за общественными настроениями верующих, но и за публикациями в прессе. При выявлении подозрительной информации сведения о ней передавались в полицию. Нередко туда поступали от высшего мусульманского духовенства заявления с просьбами «принять меры». Предварительно председатель Закавказского суннитского правления Гусейн Эфенди Габиев вызывал, например, для объяснений редакторов, принимавших к изданию провокационные материалы, содержавшие призывы к смуте. Деятельность же низшего духовенства, мулл и кадиев, оказывавшего наибольшее влияние на религиозный быт и социальные настроения в общинах верующих на местах кроме того предполагалось поставить под надежный контроль администрации.
В этой связи делались попытки централизовать управление мусульманским духовенством и открыть религиозный краевой центр (муфтиат). Данное намерение затрагивало и другие восточные окраины империи, где из-за недавнего установления российской юрисдикции, не существовало аналогичных организационных структур. Нерешенность проблемы, таким образом, являлась временной. Согласно высочайших указов 1904–1905 гг., направленных на укрепление веротерпимости в Российской империи, намечалось учреждение и особых духовных управлений для мусульманского населения Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Закаспийской областей и Туркестанского края. Распространялся этот проект вместе с тем на все территориальные субъекты Северного Кавказа, включавшие в свой состав иноэтнические сообщества, исповедовавшие ислам.
Для проработки вопроса об учреждении особых духовных управлений в крае по распоряжению наместника И.И. Воронцова-Дашкова в 1906 г. во Владикавказе состоялось совещание представителей мусульманского духовенства Кубанской и Терской областей. На него были приглашены с учетом важности принимаемых решений и представители различных светских кругов. После предпринятых обсуждений участники совещания высказались за необходимость учреждения для Северного Кавказа особого духовного правления с выборным муфтием во главе. В сферу ведения учреждаемого религиозного центра предусматривалось включить мусульманское население всех областей края, в том числе и Дагестанской, а также Ставропольской и Черноморской губерний. В этой солидарности просматривался и некий региональный контент, отражавший реальность, которую представители русской власти так или иначе учитывали.
Мусульманское население, как уже отмечалось, давно выдвигало требование об учреждении на Северном Кавказе духовного правления с подчинением его законам империи. С такой просьбой к наместнику, например, неоднократно обращались уполномоченные чеченского народа. Эту идею поддерживали и в краевой администрации. Необходимость ее практической реализации отстаивалась, в частности, в отчете за 1910 г., составленном специально для Николая II начальником Терской области и наказным атаманом Терского казачьего войска Флейшером. На его предложение «открыть духовное правление… высший орган… мусульман», чтобы ослабить влияние религиозных зарубежных центров и авторитетов на горские общества, император наложил резолюцию: «Пожалуй, наказной атаман прав, если не с теоретической, то с практической точки зрения».
Реформаторские инициативы в процессе управления окраинами Российской империи, таким образом, исходили нередко и от руководства на местах. Реагирование на вызовы времени на этом уровне было более оперативным и компетентным. Однако соответствующие решения, зависевшие от верховной власти, запаздывали. Не всегда понималась и острота рассматриваемой проблемы. Наказной атаман был прав не только с «практической», но и с теоретической точки зрения. Он имел более глубокие представления о складывавшейся специфике, как, впрочем, и другие администраторы в регионах.
Между тем необходимость соответствующих преобразований поддерживалась и на специализированных уровнях организации государственной власти. Так, 25 октября 1912 г. через департамент духовных дел, входивший в структуры Министерства внутренних дел, было разослано извещение о подготовке особого совещания, намеченного на начало следующего года, «из представителей центральных и местных учреждений подлежащих ведомств для обсуждения вопросов, связанных с предположенным пересмотром законоположений, определяющих порядок управления духовными делами населяющих империю магометан». Предусматривалось также затронуть и тему наметившегося в их среде «религиозно-национального движения». Хотя оно не выходило за рамки культурных требований, тем не менее оказывало влияние на проектировавшиеся преобразования.
Подготовительная работа, как и составление материалов для совещания, «его высокопревосходительством», министром внутренних дел, была возложена на Департамент духовных дел, который имел соответствующую материальную базу и специализированные кадры. Для реализации поставленной задачи, несмотря на немалый предшествующий опыт, у сотрудников этого подразделения обнаружился недостаток информации. Стал производиться дополнительный сбор «статистических данных, касающихся мусульман… об общем числе их, о богослужебных заведениях и духовенстве, о конфессиональных школах, о мусульманских организациях (обществах, кружках)… печати и т.п.»68 Проектировавшиеся изменения, таким образом, ставились в зависимость от соответствующих познаний, а обретение их требовало времени.
В 1913 г. в комиссию по вероисповедным вопросам Государственной думы было подано подписанное Карауловым, Далгатом и другими представителями формирующихся политических элит края прошение, в котором также обосновывалась необходимость учредить духовное управление с муфтиатом во главе по образцу Закавказского для мусульман Терской, Кубанской областей и Ставропольской губернии под названием «Северокавказского духовного управления». Помочь устроить религиозные дела горцам обещал в 1916 г. и наместник его императорского величества на Кавказе великий князь Николай Николаевич, назначенный на эту должность монархом вместо скончавшегося графа И.И. Воронцова-Дашкова, но осуществить это намерение так и не успел.
Несмотря на нарастание соответствующих требований в связи с обострением политических противоречий7, к 1917 г. этот вопрос все еще оставался нерешенным. Тем не менее независимо от этого мусульманское духовенство, как низшее, так и высшее, срасталось с государственным аппаратом. Однако пророссийская консолидация мусульманского духовенства на северокавказской окраине по-прежнему отсутствовала, хотя такая ориентация в его среде являлась уже преобладающей. Именно этим в значительной мере объясняются, на мой взгляд, различия в его позициях в тот промежуток времени с началом значимых для отечества событий. Как проясняла реальность, эта разобщенность могла быть преодолена.
Поиск противовесов цивилизационному тяготению к зарубежному ислам-скому Востоку, как можно заметить, представлял управленческие решения, направленные не на разрыв сложившихся в прошлом конфессиональных связей, а на ослабление неблагоприятных обстоятельств для российского интеграционного процесса на Северном Кавказе. При этом задействовались внутренние канонические факторы, укреплявшие вместе с тем авторитет и роль самой религии в жизни иноэтнических сообществ. Этот опыт в изучаемую эпоху, наступившую после окончания Кавказской войны во второй половине XIX в. и продолжавшуюся вплоть до 1917 г., имел, как и политика России в регионе в целом, не только очевидные достижения, но и нереализованные намерения. Тем не менее влияние сопредельного мусульманского Востока проявлялось уже значительно слабее. Российская идентичность мусульман Северного Кавказа становилась более устойчивой.
всего статей: 1642